Пошли все на хуй и в пизду
Ничего мне от жизни не надо
Я лучше тихонечко подрочу
И спокойно спать лягу.
Бабы мне не давали никогда
Ну их вообще и не надо
Я в сарае cвоем выебу гуся
Будет мне большая отрада
Вон Вовка-алкаш бежит
Под мышкой курицу несет
А вон за колхозным сараем
Макар козу мою ебет
Ну а я побежал за гусем
Скоро СПИД на хуе принесем
Держитесь , люди везде
Бабы, чешите кочергой в пизде
Мужикам велено дрочить хуй
Ваш Вова Путин — пидор и оболдуй
Залупных Дел Мастер
. И еще одна история из нашей школы. Короткая. После последнего звонка
нас «организованно» вывозили в лес на том автотранспорте, который
смогли обеспечить родители. Находясь по случаю прощания с любимой
школой в приподнятом настроении, мы не слишком разглядывали машины —
обратили только внимание, что все они белые и с надписЯми.
Ведомственные какие-то, ну и пес с ними — чей-то папа постарался.
Зато потом обратили внимание, что нам уступали дорогу машины, никто
не пытался нас обогнать, а люди, которым мы по причине все того же
настроения весело махали руками, смотрели вслед задумчиво и странно.
В общем, машины были с надписЯми «Детская психиатрическая больница».
Чей был папа, мы потом выяснили.
Навеяло вчерашним матчем «Спартак»-«Зенит»
«Следующая домашняя встреча с участием Спартака пройдет на спортивной
площадке дома 25 по ул Советская. Вход под арку, третий двор. Билеты
продаются в местной дворницкой.»
Плачевно закончилось для проводников поезда Новосибирск-Владивосток
соревнование на самый крепкий лоб. Попытка разбить головами окно привела
лишь к тому, что всем спорщикам срочно понадобилась медицинская помощь.
Путешествие на поезде из Новосибирска во Владивосток, между которыми
4800 километров, нельзя назвать приятным времяпрепровождением. Особенно
для проводников, которым по роду деятельности приходится постоянно
совершать этот вояж — пейзаж за окном уже давно намозолил глаза, и время
тянется бесконечно. И вот, чтобы хоть как-то себя развлечь во время
долгого и нудного пути, вагоновожатые решили проверить, у кого из них
самый крепкий лоб. Для прояснения этого животрепещущего вопроса они
выбрали очень оригинальный способ — кто разобьет головой оконное стекло,
тому честь и хвала. В результате, победителем вышло окно, которое
оказалось очень крепким и ни в какую не хотело разбиваться. Чего не
скажешь о самих участниках спора — головы были разбиты в кровь, и им
пришлось останавливать поезд, чтобы вызвать скорую помощь. Произошло это
на станции Вяземская — где-то посередине пути. Все «конкурсанты» были
отправлены в местную больницу, где врачи обработали и перевязали
«боевые» раны.
del Piero — это игрок «Ювентуса», а не команда DOS !
О милиции и здравоохранении
Случилась у моего друга — милиционера почечная колика (надо сказать —
штука ужасно болезненная и неприятная). На следующее утро, поскольку
больно невмоготу, отправился он в свою родную милицейскую поликлинику.
Рекомендованный там метод лечения (колика от того, что камень мочеточник
закупоривает) состоял из следующего: «Выпить 3 литра пива за 15 мин,
сесть в горячую ванну и ждать выхода камня в течение следующих 15 мин».
Повисла пауза. Друг человек дисциплинированный — ради медицины
вообще, и своего выздоровления, в частности, готов на такие жертвы.
Только, нужно, говорят ему, чтобы при этом дома с вами кто-нибудь из
взрослых находился, а то с сердцем может плохо стать. И напоследок,
говорит, чтобы камушек ваш к выходу подтолкнуть, пока его не смоет
могучим пивным потоком, можете на одной ноге с пяточки на мысочек
подпрыгивать!
В общем, вернулся он домой, купил по дороге 4 литра (на всякий пожарный)
разнообразного дешевого пива (все равно переводить), дома никого — жена
на работе, дети в бассейне. Налил он себе ванну крутым кипятком,
приготовил литровую кружку и звонит соседу — я, говорит, сейчас камень
выгонять из себя буду, а ты на телефоне виси — если разговаривать
перестану — беги ко мне, дверь открыта. Сосед согласился, только
говорит, недолго — с собакой, мол, погулять надо.
Ладно, сказано-сделано, сидя в крутом кипятке (как доктор научила)
принялся мой товарищ пиво хлебати. Осилил, конечно, со скрипом 3 литра —
12 мин ушло, добавил четвертый (как раз в 15 уложился), присовокупил
сюда же мочегонного чаю (для верности) и принялся ждать (обещано было,
как вы помните, 15 мин).
Ждет и с соседом по телефону разговаривает. Проходит 15, 20, 30, 40
мин, сосед говорит — ну тебя с твоим камнем, мне с собакой гулять надо,
а камневыгонятель, разомлевший и распаренный как рак, отвечает: «Погоди,
меня докторша учила, если ничего не получается, надо с пятки на мысок
попрыгать на одной ноге». С этими словами вылезает он из ванной,
становится на одну ногу и начинает с пятки на мысок подпрыгивать.
Ванная комната размером 2х1.5 совмещенная с санузлом, пол кафельный,
короче, поскользнулся он на мокром кафеле и башкой об унитаз! Трубка
телефонная улетела, сосед орет: «Бегу. «, и врывается в квартиру. Этот
лежит на полу, голый, красный как рак, и не знает, плакать ему или
смеятся. Живот от пива раздулся, сосед говорит: «Давай я тебе на живот
сяду, может тогда пописаешь».
В это время, забрав детей из бассейна, приходит домой жена.
Картина следующая: муж на полу голый абсолютно с фингалом под глазом,
всюду пустые пивные бутылки, и сосед на муже сверху. И оба орут:
«Убери детей. «
В общем, когда рассеялся дым: жена милиционера — женщина опытная, и не
такое видала, разобралась быстро; пописать он так и не пописал, зато это
сделала собака соседа — 3-х годовалый ротвейлер — на полу, естественно;
зато потом пришло время, и всю ночь он (в смысле милиционер) не спал —
в туалет бегал; голова наутро была квадратной, и пива больше не
хотелось никогда; камень так и остался на месте, но колики, как ни
странно, прекратились. на целые сутки.
О том как он этот камень все-таки достал, чтобы отнести на исследования,
и где это случилось — в следующий раз.
Источник: www.anekdot.ru
Фраза №1 за 19 марта 2016
Честные мужья заводят только жену, а хитрочленистоногие еще и секретаршу.






секретаршу жену → Результатов: 2
Венерологом я был недолго, собственно, меня это никогда и не прельщало, хотя в начале 90-х вполне себе гарантировало кусок хлеба с маслом.
Тем не менее, целых четырех месяца меня интенсивно обучали этой нужной, и в принципе несложной, но очень уж специфической профессии. Этого мне вполне хватило – теперь у меня в «багаже» есть дюжины две любопытных венерологических историй, которыми могу здесь поделиться. Это, в общем-то, все, чем изучение венерологии смогло мне пока пригодиться – ну, спасибо ей и за это.
Пару историй я в очень усеченном виде рассказывал в комментах лет 5-7 назад, думаю, их мало кто помнит с тех времен. Для самых памятливых могу сразу пообещать, что версии будут «расширенные и дополненные».
При всех недостатках периода распада Союза как минимум один положительный момент у СССР точно был – число больных заболеваниями, передаваемыми половым путем (ЗППП), в конце 80-х было минимальным. Помню, на весь наш большой город-миллионник за четыре месяца моего обучения было не то три, не то четыре случая сифилиса.
Один из случаев был интересен лишь личностью пациента – это был известный дирижер из Москвы, который просто не хотел светиться с таким диагнозом в столичных клиниках (ну, трахнул дежурную по этажу в какой-то провинциальной гостинице где-то на гастролях. ).
А те три случая, что остались, расследовались по полной программе, хоть и без привлечения ментов – так тогда было положено, никакой анонимности венбольных и сокрытия контактов не допускалось…
Один из пациентов был шофер дальнобойщик, подхвативший сифилис от плечевой где-то в районе МКАД. Там была интересная ситуация. Трахнул он плечевую, и при этом простыл (в октябре дело было). Приехал он в родной город на следующий день сексуально удовлетворенный, но с температурой 38 С. Тем не менее, родную жену он таки успел поиметь, после чего его на скорой увезли в больницу с тяжелейшей пневмонией. Он провалялся в больнице почти месяц, чуть концы не отдал, но – пневмонию у него вылечили. Высокими дозами антибиотиков. Которые параллельно вылечили его и от начинающегося сифилиса (подхваченного от плечевой). И вот этот шофер возвращается, голубчик, домой, здоровый, практически стерильный – а там его встречает родная жена. А у жены за этот месяц первичный сифилис уже перешел во вторичный. И она его, голубушка, только что вылеченного от сифилиса, повторно заражает ЕГО ЖЕ сифилисом. Через пару недель он идет к врачу с шанкром на члене. Диагноз – ПЕРВИЧНЫЙ сифилис. Обследуют жену – ВТОРИЧНЫЙ сифилис. По всем канонам – она источник заражения, а он чист, аки голубь небесный. «Признавайся, сука, с кем спала». А она – честная женщина, спала только с мужем, плачет, готова руки на себя наложить. Недели две врачи мучались с этой парой, но потом все же восстановили истинный ход событий. Более того, по описанию, данному шофером, и ту плечевую нашли потом, месяца через два. Нашли, кстати, во Львове… Сейчас такое даже и представить нельзя, контакты никто не разыскивает, даже и права не имеют, тем более Львов теперь вообще другая страна…
Между прочим, наша зав отделением была полностью уверена тогда, что термин «плечевая» возник от того, что дама сия «кладет голову на плечо водителю во время поездок». Все попытки мужской части нашего отделения рассказать ей какие-то базовые вещи насчет «плеча перевозок» не увенчались успехом.
Второй случай был такой – одинокая деревенская бабушка, лет 75, из дальнего района, вернувшись раз с огорода в свою избу, увидела сидящую на столе большую крысу. Бабушке это не понравилось, она махнула на крысу рукой, чтобы ее прогнать, а та, не будь дура, вцепилась ей в руку и прокусила палец до крови. На следующий день бабушка поехала в ЦРБ, показаться врачу, обработать укус, и узнать, нет ли бешенства в районе, а то, может, и уколы от бешенства делать пришлось бы. Ехать в ЦРБ было долго, бабушка приехала туда поздно, и врач, принимавший ее, сказал: «Бабуся, чего тебе на ночь глядя домой теперь тащиться, твой автобус уже ушел, давай мы тебя дней на 5 в больницу положим, пообследуем, а если ничего не найдем, там сразу выпишем».
Положили бабку в больницу, больше, как бы сейчас сказали, по социальным, а не по медицинским показаниям, ну а наутро – как учили, анализ мочи, анализ крови, реакция Вассермана. RW оказалась, не поверите, 4 креста (++++, все очень плохо). Повторно взяли кровь, уже более специфичный метод использовали – все равно ++++. Сифилис, однако! Стали к бабке подкатывать, мол, когда последний раз с мужиком-то была, бабуся… Та краснеет, и говорит, что, кажись году в 1968 согрешила с дедом со своим, ныне уж покойник он, лет 10 тому как. В ЦРБ с венерологами швах, так что отправляют бабку в область. При этом все соседки узнали, что «у Никитичны – сифилис», аж запретили ей из общего колодца воду брать, она уж очень сильно переживала. Приехала Никитична в областной КВД, а там и увидели, что сифилис-то у нее – врожденный, со всеми характерными признаками (зубами, голенями, и т.п. – кому интересно, милости просим в Википедию). Начали расспрашивать о родителях, о семье. Та рассказывает, что она самая младшая, у матери ее было 5 беременностей, первая закончилась выкидышем, следующая – ребенок родился, но умер примерно года в полтора, второй дожил лет до десяти, и тоже умер от какой-то непонятной болезни. Еще один брат болел и умер лет в 40, она вот дожила до 75 лет, и есть еще у нее младшая сестра, 70 лет, живет там-то и там-то, ничем не болеет, да и сама она ни разу – до этой крысы проклятой – к врачу за свою жизнь не обращалась, все было хорошо, вот только детей не было. Нашли сестру, сделали анализы – у той тоже ВРОЖДЕННЫЙ сифилис. Т.е. согрешили папа с мамой где-то в самом начале XX века, несмотря на это, сами выжили, ну и родили детей, которым передали свою инфекцию. Первенец получил спирохет больше всех и не справился с такой нагрузкой. Чем дальше от момента заражения, тем меньшую дозу спирохет передавала мать своим детям, тем здоровее они были, и тем дольше жили. Если бы не та злополучная крыса, то две младших дочери, не обращаясь в своих деревнях к врачу, так бы никогда и не узнали, что всю жизнь были больны сифилисом.
А вот и третий случай — в одной воинской части дочь капитана и поварихи гарнизонной столовой решила пойти по стопам матери и устроиться в столовую после окончания десятилетки (в 17 лет). На предварительном медосмотре — вторичный сифилис. Что, как, у родителей чуть не инфаркт с инсультом. Как положено в советское время было – начали выяснять возможный источник заражения «капитанской дочки». Выяснилось, что минимум 40 подчиненных ее папы-капитана ее трахали — за бесплатно! — за последние полгода (мы лечили сифилис, а не занимались моральным обликом советских военнослужащих, поэтому предыдущие периоды нас не интересовали). Всех, кого она вспомнила, голубчиков, мы доблестно профилактически (!) пролечили — признаков заболевания не было ни у кого! Девушка была по-своему не дура, и выбирала для секса преимущественно военных в чине не ниже лейтенанта. Один лишь у нее был в списке контактов рядовой – москвич, сын какого-то генерал-лейтенанта, короче, мальчик перспективный. Но, как потом случайно оказалось, не она одна «полюбляла» этого генеральского отпрыска. В Москве, как мы потом выяснили, оный генеральский сынок (18 лет) за милую душу «пользовал» 40-летнюю секретаршу своего папы. Она ему минимум раз в неделю звонила в его в/ч по «вертушке», а тут она попросила его к телефону, а ей ехидным голосом говорят: «А ваш Вася уже неделю как от сифилиса лечится!» Она на следующий день прилетела к нему, устроила разборку, причем он после этой разборки ломанулся вешаться, но его устерегли, мы накачали его антидепрессантами, короче, все было с парнем хорошо. Часть лейтенантов начали нам «сдавать» свои дополнительные половые контакты, за пределами в/ч – оказалось, что в в/ч с «шефскими визитами» любили наезжать дамы из райкома комсомола, числом 3-4 одновременно, причем каждая дама за «сеанс» обычно имела контакт с 5-7 военными. Мы вызвали тех дам, был большой скандал в райкоме, но сифилисом нас тот райком не «порадовал», была только у тех дам гонорея, и то не у всех, да вши лобковые. С учетом огромного числа возможных половых контактов расследование цепочки сильно затянулось, в итоге мне рассказывали уже после завершения моего обучения концовку той истории.
Как в итоге выяснилось, «капитанскую дочку» заразил ее же школьный учитель физкультуры, он заразился от любовницы, жены местного врача скорой помощи, бисексуала, которого заразил его партнер-наркоман, убежавший к тому времени на Кавказ. И только там его следы затерялись, хотя всю предыдущую цепочку наши эпидемиологи доблестно выявили и пролечили, кого надо было.
Сейчас это рассказывается и слушается как сказка, т.к. никого сейчас не ищут, даже у заболевших имени уже не спрашивают. Какая уж тут теперь профилактика – немудрено, что с такими, мягко выражаясь, свободными нравами, в 90-е, при разрушении системы выявления контактов больных с ЗППП, сифилис, гонорея, да и СПИД – рванули ввысь…






Решила как-то жена на работу к мужу заглянуть. Заходит — муж на столе свою
секретаршу пялит. Глянул на жену, кончил свои дела, и (застегивая штаны):
— Вот Марь Иванна, а в следующий раз я вас за это не только выебу, но и с работы
уволю!
Источник: vysokovskiy.ru
Ваш браузер не поддерживается
Наградить фанфик «Некоторых людей стоило бы придумать»
Это превратилось в цикл историй внутри вселенной меток, и собирается со временем уйти от канона либо далеко и надолго, либо пойти по параллели. Каждый новый сюжет будет отделяться от предыдущего другой нумерацией. Все истории происходят в одном таймлайне и складываются в одну.
У этого есть иллюстрации. Мне дарят, я их гордо, как медали, на стену, потому что ОНИ ПРЕКРАСНЫЕ, БОЖЕ МОЙ.
http://taiss14.deviantart.com/art/Yuri-on-ice-Happy-New-Year-654507659
http://taiss14.deviantart.com/art/Stay-close-to-me-Yuri-on-ice-658068729
https://img02.deviantart.net/6d44/i/2017/115/7/8/your_weak_spot__yuri_on_ice_fanart__by_taiss14-db6nokb.jpg — к 9 главе.
https://68.media.tumblr.com/9726098b8d0116483fff231f73d05606/tumblr_orenr3W32D1rjhbc0o1_1280.jpg — роскошный коллаж к главе 2.19
http://i.imgur.com/QGYrVaC.png — к 2.2. потрясающие Лилия и Юра. И Котэ.
Обложка к части о Юре, которая сожгла меня в пепел: https://vk.com/public_koldangrey?w=wall-66334727_2676 от потрясающего автора.
Восхитительные Юра и Отабек к 2.14. от Akinama — https://pp.userapi.com/c836725/v836725516/559ad/9gGd7lT7Q7s.jpg
Never thought youʼd make me perspire,
Never thought Iʼd do you the same,
Never thought Iʼd fill with desire,
Never thought Iʼd feel so ashamed.
— Где еще половина оборота, где выход, куда угловую проебал? Вернись, куда ты ломанулся! Никифоров!
Ей-богу, это грело душу.
Не то чтобы я скучал по русской речи.
Не то чтобы я очень хотел, чтобы меня в семь утра мордой по льду повозили.
Просто Юри говорил, краснея: «В этом столько любви, Виктор, как ты не видишь?»
Я вижу, Юри. Точнее, слышу. Может, немножко чаще, чем хотелось бы, но да, ты в целом прав, любви в этом всем куда больше, чем желания меня бросить в Неву.
Пришлось вернуться.
Сжать зубы и не обложить Якова матом. Мне и так перед ним до пенсии разгребать.
Яков ждал, стоя в центре, руки в боки, на коньках он менялся разительно — куда-то девалась грузность и затихала одышка, оставался громоздкая фигура, которую даже неповоротливой было сложно назвать. Да, большой, но это в плюс к скорости, да, полноват, но это только резкость сглаживало.
Однажды я видел, как Яков пьяным рубится в хоккей, и ладно бы в приставку — на замерзшей Ладоге в Кировске, под Новый Год. Мы выезжали кучкой, я был еще зеленый, Гоша и Мила — еще зеленее, Юрку просто не взяли, он тогда ногу разъебал на юниорских.
Яков накушался и добыл клюшки и шайбу у местных.
Хоть снимай и на Ютуб клади, чтобы американцы боялись.
Американцы, кстати говоря, охуели, на Чемпионат Мира выходили аж четверо. Так можно было только нам.
Наших в одиночном вышло тоже четверо, пресса утверждала, что пятеро — я, Плисецкий, Попович, Гурьяненко — ребеночек Соколовой, — и Юри.
Юри окопался, всеми силами сохраняя за собой право на национальную самобытность, но шутка про русского японца взлетела и носилась в прессе уже пару месяцев.
Вчера я смотрел его интервью в Сикоку — первое место на национальных, второе золото в карьере, потрясающий взгляд в номинации «Я это уже проходил, но от волнения нихуя не помню». Темные глаза в камеру — я сейчас позвоню тебе, Никифоров, только пошлю репортеров подальше, и позвоню. И ты расскажешь мне, почему нельзя так поступать с тройным риттбергером, а я расскажу, куда тебе засунуть свои наставления, чем смазать и с какой частотой заталкивать.
Костюм был хороший. Я прокрутил интервью три раза — раз слушал, два — просто любовался. Рукожоп-оператор на национальных не взял с его выступления крупный план ни разу, лишив японских телезрителей возможности как следует полюбоваться. Черная сетка и алая широкая лента, змеей обмотавшая тело — от шеи до бедер и по ногам. Подгоняли долго, денег вбухали, как в меня. Результат того стоил — Юри как будто был голый, настолько хорошо ткань села. При правильном свете он выглядел, как летящая в темноте лента в руках гимнастки…
— Ноги деревянные! — Яков оглядел меня с макушки до коньков и приложил: — Отдыхать. Двадцать минут. Потом я тебя выебу.
— А потом напишут, что я тебя убил инсультом, — наверное, Лилия вынимала бедному Фельцману всю душу, такой он был злой в эти дни, доставалось всем, больше всего — мне и Гоше, почему-то не Плисецкому. Наверное, Юрка со своей вечной быдлотой резонировал с искренним желанием Якова кого-нибудь покалечить, не физически, так вербально.
С Лилией они сходились после одиозного банкета в Барселоне аж три раза, в ленты новостей наутро попали впервые не фигуристы, а тренеры.
Кто-то просто на автопати включил песню их молодости, а дальше сам Сатана велел действовать. Плисецкий с истерикой съехал от них через неделю после возвращения в Питер. Он теперь был большим мальчиком, который под строжайшее честное слово не шалить, данное деду и Якову, снял квартиру недалеко от арены.
Теперь Яков был в периоде «все зло от баб», что я чувствовал на своей шкуре до самого хребта.
Хорошо, что Юри улетел.
Плохо, конечно, но хорошо.
Яков оказался неправ — Юри никто не собирался сожрать, не могу сказать, что мне не хотелось посмотреть, как эти люди подавятся, между прочим. Юри никто не обижал, не пытался задеть, не оскорблял и не ставил палки в колеса. Утрясли и дерьмо с японской стороной, и визу держали всего-то пять недель, и разрешение на занятия в России выдали быстро, и контракт, который потребовала и Русская Федерация Катания, и коллеги в Стране Восходящего Солнца.
— Если бы вы поменьше выебывались, вас бы поменьше трогали, — считал Яков.
Да мы что, разве же мы много выебывались?
Мы вообще не работали на публику, в конечном счете.
Мы просто, наконец, объяснились как полагается, не обращая особого внимания на тысячную толпу. Что? Я много лет лелеял своих фанатов и их любовь, можно раз в жизни и пренебречь.
Яков потом долго орал, что на личную охрану нам с «сусликом» тратиться не будет, и какого это лысого хрена моя рязанская и питерская родня звонит ему, а не мне?
Потому что моя родня отлично знает, что я отвечу, вот почему, дядя Яша.
Как и Федерация.
Как и пресса.
— Если вы имеете претензии к технике, то мой тренер мне уже все сказал. Если вы имеете претензии к драматургии, то сделайте скидку на мой годовой отпуск и нервное напряжение. Тренером быть сложнее, чем фигуристом. Если вы имеете претензии к моему партнеру — поговорите с ним об этом. Будьте нежнее.
— «Нежнее, Виктор, еще нежнее», — это Гоша, злой мудак. Смотрит с другого конца стола и ржет.
Ржет вся сборная, иностранные репортеры, рекламу эту не видевшие, шутку не поняли.
Даже Яков заулыбался в микрофон.
— Витя, — Яков уже пару минут стоял, разглядывая мое лицо, — шабаш, иди сядь, болезный. Ты вообще спишь?
— Куда я денусь, — я поехал к бортику. — Яков, прости. Я сейчас соберусь.
Яков закатил глаза.
Перед Яковом хотелось извиняться бесконечно, я все надеялся, что это через пару месяцев пройдет. Или Яков озвереет и сбежит в Америку от моего чувства вины.
Исключительно на этом чувстве, не иначе, я с горем пополам взял на России серебро, самым болезненным и неприятным способом поняв вдруг, что такое год отдыха в моем возрасте. Юрка переводил это на более простой русский:
— Поимели тебя, Витенька.
— Имелка не выросла, пиздюк, — от души ответил я. Покраснел почему-то Юри, который в этот момент, никого не трогая, тянулся себе на коврике для йоги.
Плисецкий оторвался всего на десять сотых балла, и это ощущение, что в затылок дышу я, да еще и Юри в перспективе, делало из него, мягко говоря, неприятного человека.
Теперь Юрка был в Москве, Яков отпустил его на пару дней к деду. В спорткомплексе воцарилось блаженное затишье, с утра Яков истязал меня, потом ел на обед девок, вечером — юниорскую группу.
Я, оставшись без дела после обеда, нарезал круги по катку, иногда лез Якову под руку с советами и вопросами, иногда брал мелких и дурачился с ними, некстати вспоминая тройняшек Нишигори, пока Яков не ловил меня за шиворот и не выталкивал с катка силой.
— Иди, — говорил он, — погуляй с кобелем, позвони суслику, почитай книжку. Ноги сотрешь скоро.
Лучше ноги, чем руки, — философски думал я.
Мокрые питерские улицы не располагали даже к расслабляющему катанию на велосипеде, впору было стреляться.
Я вывалился из Спортивного в шесть вечера, заматываясь в шарф на ходу. Глянул на часы и не увидел их. Юри возвращался через два дня.
В кармане ожил телефон, и я поднял трубку, не глядя, кто это.
— В Вайбере было бы дешевле.
— Здесь плохой вай-фай, — Юри говорил устало. Плохо спал? — Виктор, я уже в аэропорту.
— Закончил раньше?
— Мама позвонила и велела мне выметаться прямо с национальных, ей сказала Минако, а Минако сказала Юко, а Юко сказал Юрио, что тебя скоро убьет Яков-сенсей.
Агентура на местах впечатляла. А главное — вся вражеская, хоть бы кто свой. Юри многозначительно помолчал. Мне нечего было сказать в свою защиту, кроме как:
— Я тебя встречу.
— У тебя тренировка завтра, и знаю, что ты заваливаешь тройные, — Юри говорил почти сердито. Я ненавидел его способность при желании обретать полезные связи с кем угодно. Это было невероятно — человек, который стеснялся разговаривать в компании больше троих, мог договориться с террористами.
— Тогда Юрио тебя встретит, он завтра утром летит из Москвы сюда.
— Нет, спасибо, обойдусь, — вот теперь Юри почти испугался. — Правда, Виктор, я справлюсь, я буду в Москве к полудню. Может, чуть раньше даже. Меня никто не украдет и не съест. И не уведет. Правда.
— Ты успел отъесться до неузнаваемости?
Юри снова выдержал паузу.
— Виктор, — очень серьезно заговорил он, — прекрати, пожалуйста, отрывать мне голову. И себе ногу. Она тебе нужна.
Нога противно ныла, я научился не обращать на нее внимания. Мы уже выяснили, что это происходит из-за расстояния и моей паранойи.
Это был случай тяжелый, терминально неоперабельный, после Барселоны началось. Точнее, чуть позднее, с моим серебром, наверное, когда Юри весь вечер поздравлял меня, поддерживал, улыбался. И чем больше он говорил, как мной гордится, тем больше я осознавал, какое я ужасающее чмо.
Не ожидал, что самую страшную конкуренцию мне составит именно он. Нет, не комплексы зашевелились, конечно, скорее, запоздало уязвленное самолюбие, я ведь так хорохорился, возвращаясь в новый сезон, спустил все на тормозах, уверенный, что даю Юри фору.
Это он, оказывается, мог мне дать. Фору. И не только.
Секс от всей этой состязательной хуйни, конечно, выигрывал.
Вот и теперь Юри выиграл золото и летел в Питер. Он будет здесь через семнадцать часов. В квартире. Я приду с тренировки, впервые не задержавшись на ней ни секунды больше положенного, а он будет спать дома, скорее всего, даже не раздевшись, на диване, Маккачин — сверху, навалится душной лохматой тушей, уткнется носом в шею. Юри будет негромко храпеть, очки набок, на подушке — слюна; волосы, которые давно бы постричь, лезут черт-те куда. Вокруг — куча чемоданов, дорогих, от Луи Виттона, которые с боем накупил я, и его ободранный рюкзак, который я никак не могу подкараулить и сжечь. На тумбочке — новые матрешки. Юри завел привычку покупать их и везти откуда угодно, только не из России.
«В России я теперь живу, это не спортивно. А искать матрешек за границей — означает облазить весь город и пригород. Приятно и полезно».
Юри был маньяк с бессимптомной формой развития заболевания. С крайне своеобразным чувством юмора.
Стоит сказать, что с некоторых пор в Хасецу продавали рекордное количество матрешек.
Я остановился и потер лицо рукой. Господи Боже.
— Виктор?
— Я жду тебя, Юри.
— Я знаю, — Юри говорил почти раздраженно. Конечно, он знал, он, наверное, жрал обезболивающее пачками. — Тут пишут, что я стал кататься лучше.
— Еще бы.
— Вот, послушай, я попробую тебе сразу на английский перевести: «После триумфального прошлогоднего возвращения Кацуки Юри становится уже двукратным чемпионом Японии в одиночном мужском катании. Многие критики считают его новую программу слишком вызывающей и откровенной, даже посредственной, поскольку фигурист оставляет музыке сказать все за него, в этом сезоне делая упор на технику, а не на исполнение. Однако очевидцы уже прочат надежде Японии невероятный успех, отмечая небывалое вдохновение в дорожках и, опять-таки, театральном наполнении номера…»
— Музыка все говорит за Джей-Джея, — я против воли улыбался. — За тебя говорю я.
— Оставь мне хоть что-нибудь, — Юри, судя по голосу, улыбался тоже.
Юри проснулся, как только я открыл дверь в номер, будить даже не пришлось. Он заспанно тер глаза, сидя на постели, на шее — шов от подушки, на щеке — блестки.
— Яков обещал помогать, — я сел на край кровати и вдруг понял, что нахожусь в этом своем костюме уже пять часов. — Посмотришь, какими бывают настоящие тренеры, начнешь меня любить и ценить в кои-то веки.
Юри сонно моргал. Глядя на него, хотелось тоже лечь спать.
Еще больше хотелось в душ, прихватив его же, долго и лениво мыться, обтекая.
«Может, ты еще детей захочешь?»
Нет, — я усмехнулся. Скорее, секс, обвешавшись всеми медалями. Для мотивации.
Юри зевнул и придвинулся ближе. Тяжело вздохнул.
— Я… со мной столько проблем.
— Это верно. Со мной не меньше, судя по всему.
— Нет, что ты… — Юри вскинул на меня глаза и вдруг покраснел. — Много. Очень много, Виктор.
Я торжествующе улыбнулся. Внутри обмирало и обмораживало.
Если вы думаете, что я был полон радужного предвкушения и надежд насчет предстоящей жизни, то вы очень ошибаетесь.
Я никогда не жил с кем-то.
Я никогда не жил с Алекс, ночевал, гостил, встречался в отелях — да. Не жил.
Я никогда не жил с Юри, пока был у его родни — это все еще была гостиница, курорт.
Я не привел в свою квартиру никого, кроме Маккачина, хотя мой дом всегда выглядел так, будто я жду — прибранный, вылизанный, чистый и готовый. Гоша говорил, что дело просто в моем предусмотрительном блядстве. Запасные щетки, тапочки, стратегическое хранилище чистого белья и презервативов. А подушка-то одна.
И через площадку — семья с тремя детишками. Гетеросексуальная и идейно правильная, без скелетов в шкафу, представьте себе. И бабулька — божий одуванчик.
Впрочем, какое мне дело, если я ждал и дождался.
Баба Света кое в чем не ошиблась — я прихорашивал, причесывал себя, свой дом, свою несуразную жизнь, чтобы было не стыдно показать своему Меченному при встрече.
Но все равно получилось стыдно. Влетел-то я на коне и в плаще, фигурально выражаясь, а спешился все равно на задницу.
— Виктор? — Юри подполз, перелезая через наваленные одеяла, заглянул в лицо. — Ты сердишься из-за медали?
Даже Юри мало напоминал человека, который может всерьез задать такой вопрос. Зато я очень даже был похож на того, кто может из-за серебра сердиться.
— Нет, — я не врал, я был так пьяно счастлив, что врать просто не мог, нес пургу прямо так, — что ты, душа моя, я горжусь тобой. Горжусь нами. Я просто думаю о том, что запустили мы показательные, да?
Мы брались за них в Хасецу, после работы над сезоном оставалось полно обрезков и обмылков, которые Юри слепил в полноценный прокат, легкий, танцевальный и ненапряжный. Проходной. Мне он нравился, Юри считал его халтурой и полагал, что лучше без него, но играть хотел по правилам. Возвращаться так возвращаться. Однако по забавному стечению обстоятельств, откатать показательную ему не пришлось ни разу.
— «Подмосковные вечера», — Юри потер руками лицо. — Я, вообще-то, шутил.
— Ты, вообще-то, не умеешь.
— Ладно, — покладисто отозвался Юри. Он сел ровнее и потянулся, майка задралась на животе. — Я должен прогнать ее пару раз. Для уверенности. Я не сомневаюсь, что она удастся.
— Конечно, легкотня.
Юри глянул на меня странно и кивнул.
— Могу я… могу я пойти с тобой?
Вообще-то, обычно я не спрашивал, а утверждал, на крайний случай — предлагал.
Юри, давай гулять.
Юри, давай туда квад.
Юри, давай вместе спать.
Но Юри… вытянулся, удобное слово, спасибо, Яков. Заставил с собой считаться, брови научился хмурить и зубы показывать. Я знал, как никто.
И, как никто другой, тащился от этого. Эту станцию я уже проезжал — смотрите, смотрите, что я нашел и отмыл от песка! — но я все не мог успокоиться.
— Ну, — Юри глянул в сторону, прищурился на часы, поискал безнадежно слепым взглядом свои очки, — я, вообще-то, хотел сделать тебе сюрприз.
— Как и я тебе. Но мне тоже надо прокатить свое хотя бы раз, на самом деле, потому что, пощади, я, вообще-то, ржавею.
Я ждал, что он возмутится, заступится за меня передо мной же, что ты, Витя, ты же идеален, ты не можешь заржаветь!
Но он кивнул, хмурясь, и опять зевнул.
— Хорошо. Посмотришь заодно, твой взгляд нужен. А я посмотрю на тебя.
А вот это всегда пожалуйста, Юри.
Смотри на меня.
Сколько получится.
Сколько сможем.
Юри выехал на лед, качаясь. Разминаться не стал, куда ему уже, и так денек был страшный.
— Не гони, ладно? Делай, как получается, не ломай спину и не рвись. Ты сегодня и так напрыгал…
— Виктор, — Юри потянулся, обнял себя за плечи, покрутился. — Тебе нужна помощь в разминке?
— Потяни меня, — я оробел от его голоса. Блядь, Юри, что с тобой?
Почему этот чертов барселонский каток превращает тебя в это стихийное неуправляемое нечто, танк без пилотов, убедительный, как парабеллум у лба? Почему мне нельзя о тебе заботиться, я же тренер, мне же разрешили, еб твою мать.
Как ребенок, Никифоров. Конфету не дали.
Я молча отъехал к борту.
Юри давил мягко, прогибал, гладя спину и бедра, цеплялся за плечи крепко, но бережно, и все время дышал в шею, держа провокационную такую дистанцию в пару сантиметров.
— Я всегда мечтал это сделать, — признался он. И сел, придавив в шпагат, мне на плечи. Я ухнул от тяжести, не то чтобы непривычной, но в комбинации со словами и его поведением — немножко шокирующей.
По спине прокатился холодок, врезал по крестцу.
Юри помог мне подняться и отъехал в сторону. Расстегнул кофту и бросил на ограждение, помахал руками. Глянул на меня, прищурился — очки уже где-то оставил.
— Ты первый?
— Нет, давай ты.
— Почему я?
Мне стало смешно.
— Потому что ты сегодня герой дня, я уступаю.
— А ты пятикратный чемпион, которого я все еще не заслуживаю.
— А ты…
— Виктор, — Юри улыбнулся — бросай оружие, руки за голову, Никифоров. — Ты старше.
Вот сука, а.
— А еще я умнее и опытнее. Давай, — я махнул рукой и вернулся к бортику. — Я старый человек, дай присесть.
Юри фыркнул и отвернулся. Потом вынул из кармана штанов телефон и стал рыться в нем.
— Я могу напеть, в принципе!
— Сомневаюсь, — Юри быстро глянул на меня. — Я бы мог, я знаю итальянский, но певец из меня…
— Медведь на ухо наступил, — я фыркнул. — Так в России говорят, если нет слуха.
— Слух есть, — Юри закусил губу и подъехал, протягивая телефон, — голоса нет. Меня из караоке не выгоняли только потому, что Нишигори выглядит, как охранник. Нажмешь «воспроизведение»?
Когда он задел мои пальцы, меня тряхнуло, как впервые. И это после всего-то… наверное, Юри волновался, в этом дело, и дрожь передалась, как по проводам.
Я опустил глаза. Файл «NO NAME». Конспиратор.
Юри вернулся в центр катка, под белую плюху рампы, туда, где он два дня назад завалил меня на лед… нет. Не думать. Не сегодня. Тогда был другой день, другая игра, другое кино, где Юри прощался — навсегда. Наихудшим образом из придуманных людьми — отлюбить напоследок, запомниться до смерти.
Он кивнул мне, и я нажал на кнопку.
Наверное, я должен был догадаться, за секунду до того, как коснулся экрана. Юри же сказал — сюрприз. Уверен, что справится. И по итальянски-то шпарит, ах ты, умница какой.
Я даже не музыку услышал сперва, угадал по движениям — Юри снова потянул мелодию за собой, опережая на долю мгновения, махнул рукой, позвал — можно, давай, играй. Как дирижер.
Он обнял воздух, скользнул ладонями по плечам, закрыл глаза, заламывая шею, тряхнул волосами — отчаяние и страсть, и голод, и поиск.
Я шевельнул губами за мгновение до того, как вступил солист.
Кораблик, красивый и уверенный, мой кораблик.
Дорожка, моя, вплетенные движения рук, зовущие, просящие — не уходи, оставайся всегда, я найду тебе и место, и подушку.
Руки-крылья и плавность, превращенная в скорость — я тебя найду, это дело решенное.
Четверной флип, которым Никифоров приветствует обычно своих зрителей — смотрите, Никифоров мой, для меня, во мне.
Я положил телефон на лед и оттолкнулся, набирая скорость. Юри прыгнул тройной тулуп, дорожка, сальхов, дорожка — он заметил меня, сбросил скорость и улыбнулся — видишь, какой я говнюк?
Протянул раскрытые ладони, и я поймал его, чувствуя себя странно. Одно дело — параллельный прогон, их было много, пока научишься подражать, руки-ноги не по разу о лед сточишь. И косоглазие схватишь вдобавок.
А тут — не просто в ногу идти, угадать, что будет дальше.
Хотя, что тут угадывать, программа-то моя, только убрать лишнее, срезать ненужное, где я кидаюсь и швыряюсь о лед, прошу униженно, на строчках о смерти и зависти ко влюбленным — пошлятина какая — убрать каскад с заломленными в страдании бровями, это тут у меня уже нога отваливалась к ебене дрене, а мозги плыли, да?
Смешно.
Юри держал руку крепко, дорожка получилась синхронная — подозрительно легко.
Сгладил скорость там, где я должен был разогнаться до максимальной, взять угловую и истерично взлететь — погладил по щеке, притянув за руку, в парном развороте. Глянул в лицо, моргнул — нормально?
Более чем. Более чем, Юри.
Он остановился. Музыка продолжалась, мы отъехали достаточно далеко, чтобы она превратилась в голоса из-под воды, или это кровь в ушах зашумела.
— На той записи в интернете лучше.
— Там на меня не смотрел ты, — Юри тяжело дышал, заглядывая в глаза. Руку не выпустил. — Ничего, наработаю. Я уже катал всю прошлую ночь, получилось идеально, даже Юрио согласился…
— Он был здесь?
— Да, тоже пролез на каток ночью. Обещал не выдавать, сказал, что я больной. Сказал, что на твоем месте удавил бы меня вообще, если бы с его программой кто-то такое сделал.
— Устами младенца глаголет истина, — я зажмурился, такой Юри был… идиот. Но идиот правильный, душеспасительный, жизненно необходимый.
— Что?
— Я говорю — почему она, Юри?
— Я решил, что тебе будет приятно, — Юри уставился на свои коньки. — Давно решил. Еще когда ты прилетел. Я загадал — если все получится, если я закрою сезон хорошо, если ты будешь мной доволен, я сделаю «Будь ближе» еще раз, чтобы попрощаться с тобой, как надо, чтобы осталось. Ну, знаешь. На память. Это же логично. С нее все началось, да? Ты увидел ее и приехал.
— А кольца? — я звучал жалко. Голос дрожал.
— А кольца сначала в планы не входили.
— Ты ведь теперь не прощаешься?
— Теперь — нет, — Юри глянул вверх на меня виновато. — Хорошая музыка, да? Как хочешь, так и понимай, очень удобно.
На записи к мужскому голосу добавился женский, нежное меццо-сопрано. Юри глупо моргнул. Я прикрыл глаза.
— Юри.
— Да?
— Что еще сказал Юрио?
— Сказал, что я конченный гомик и слюнтяй. И что надо попробовать поддержки для полного счастья. И чтоб мы уже катились в парное катание и не морочили порядочным людям голову, потому что все равно нам осталось только на льду, ну… Но мы это уже сделали, но я этого Юрио не сказал, он ведь несовершеннолетний, и он ведь хороший парень, он желает нам добра, думаю, в глубине души. Да?
— Да.
— Виктор?
— Да?
— А что собирался катать ты?
— А ты угадай.
Я открыл глаза. Юри смотрел так напряженно, как будто ситуация прямо сейчас могла стать еще более неловкой. Куда еще-то, мой раскосый друг. И так коленки подкашивались, мне хотелось дать панический круг по льду, ударить что-нибудь, выругаться, сжать кулаки и переломать пальцы, но кулаки дрожали от слабости, и нежность, противная, сырая, проникала, как питерский туман, во все щели, вымачивала, подтачивала балки. Я сырел и подтекал, и шатался.
Мой дурень, мой умный, мудрый, хитровыебанный японский самородок.
Юри. Юри-Юри-Юри.
— Что думаешь?
— А? — Юри встрепенулся, моргнул по-совиному. Песня кончилась и началась следующая — какая-то кошмарная попсовая хрень про стук сердца и историю, которую пишем мы сами. — О чем?
— О поддержках. Простенькие потянем?
Юри качнулся, я поймал его за локоть, потом обнял, прижал к себе, так, будто боялся помять его.
— Я не знаю, — Юри говорил сорванным шепотом, — я же тяжелый.
— Был. Год назад. И я тяжелее. И рост позволяет. Иди сюда.
Мне просто охуительно хотелось его сжать, трясти, тискать и поднимать на руки, но Юри был такой серьезный и деловой, что я умирал от зависти и душил дурацкие неуместные порывы. Потом. Все потом, у нас несколько часов, и надо будет поспать, потому что я же просто убиваю его вот так, что сказал бы Яков…
Яков бы мудро сказал, что этот упырь убивает меня, разумеется, так что хорошо, что Яков мирно спит в своем номере.
Юри ахнул, когда я аккуратно развернул его к себе спиной. И, не удержавшись, ткнулся лбом в затылок, постоял так, дыша.
— Что ж ты не сказал мне… Ты тренировался ночью? Весь год?
— Иногда, — голос Юри задрожал.
— А я тебя по врачам гонял, на анемию грешил, у тебя лицо, как у вампира. Поэтому тебя утром пушкой не поднять…
— Нет, не так часто, — Юри мотнул головой, рвано вздохнул. — Я же не идиот.
— Еще какой идиот.
— Я знаю программу наизусть. Мне просто надо было… время от времени напоминать себе, зачем это все, куда я должен стремиться, это проще, когда представляешь себе конечную остановку.
— Нихрена она не конечная, — я сдавил его так, что ребра, наверное, засаднило, но пусть спасибо скажет, что не за шею. Убил бы. Сам. Как он меня. — Ты понял?
— Я понял. Не надо калечить.
Я вспомнил, как разглядывал иногда точно так же свой последний костюм в чемодане. Розовый атлас, эполеты, шифоновый хвост фрака. С той же самой целью — помни, почему ты здесь. Помни, чем это кончится.
Выкусите, отсосите, унесите — не кончится. Не для того мы столько всего натворили. Не теперь. Не сегодня и даже не завтра.
— Костюм. Возьми «Юри на льду».
— Костюм есть, — Юри дышал со свистом — я говорил прямо во влажные волосы на затылке, — я же готовился. Заказал в Токио. Его прислали в Хасецу в наш последний визит. Мари видела. Сказала, что я тронутый, и что в России такую невесту, как я, не примут. Я всю ночь не спал, думал, как быть. Тогда, наверное, до колец и додумался…
— Юри.
— Да?
— Помолчи. Мне надо сосредоточиться. Если я тебя завтра при всех уроню, в России не примут меня.
Юри хрипло засмеялся. Ахнул и напрягся, когда я положил руки на его талию, скользнул вверх по ребрам, ухватился подмышками.
— Вытяни и расслабь руки. Если будешь падать — береги лицо. И коньки отведи.
— Мне показывали поддержку, — Юри говорил тихо. — Челестино поднимал меня в Детройте. Хотя, мне тогда было семнадцать…
Я дернул вверх — может, немного резко, но никаких Челестино на моем катке. Юри был тяжелым, не девочка явно, он не врал, но держался — пружинисто, странно ощущаясь в руках. Крепкий тугой узел мышц и жил и нервов. Я поставил его обратно, стараясь, чтобы руки не дрожали.
— Я поднимал женщину своего роста, — я выровнял дыхание. — Должно быть нормально. В движении легче. Музыку еще раз. Поддержек будет четыре. Я скажу, где.
— Я знаю, где, — Юри потер затылок и улыбнулся.
И правда, знал.
В отель мы вернулись под утро. Болело все. Утреннюю тренировку мы благополучно проспали, но, судя по Твиттеру Мари, не только мы — на открытый прогон показательных выбрался только зевающий Алтын и бодрый как прапорщик Крис.
Юри молчал и улыбался, и только благодарно блеснул глазами, когда я набрал в номере горячую ванну и взашей затолкал его в ванную комнату, впихнув в руки халат. Захлопнул дверь и отошел к дивану, дождался плещущих звуков и только тогда нашел между подушек свой телефон.
Набрал Якову смс.
«Не приходи на показательные, тебе не понравится».
«Работа у меня такая, чтобы не нравилось».
Я бросил телефон на одеяло и зажмурился. Глаза резало с недосыпа.
Юри запел в ванной.
В этот момент я понял, что все будет хорошо. Как бы страшно ни было отпускать эту мысль в пространство — сколько она расшатала прочных стен, сами знаете.
Но — все будет хорошо.
Да ведь?
Пожалуйста.
Когда Юри выходил на лед, я сделал страшную вещь — я перекрестился.
И стоящий в паре шагов Плисецкий — в сияющем блестками пиджаке и кожаных брюках, в цепях и заклепках, нехристь чумазая, — заржал на всю ложу.
Юри скользнул к центру, махая трибунам, поцеловал кулак с кольцом и выбросил в воздух, прикрыв глаза. Зрители взвыли.
Встал в исходную, наклонив голову.
Поднял — медленно, трагично, поймал черный взгляд камеры и вернул сторицей, поднял руку к потолку, прогнулся пружиной и выпрямился, запуская себя в движение, неотвратимое и вечное, потянулся, рассекая воздух дрожащими пальцами, заигрывая с нотами и освещением, черканул кораблик, небрежный и рассеянный, дорожку — быструю, тоже набросанную от руки, впопыхах. Так надо. В этой части Витя-долбоеб одинок и сиятелен. Его надо пожалеть и отмахнуться, сплюнуть — чтоб нам всем так с жиру беситься и радоваться одиночеству.
Юри плетет, заплетает, прыгает флип, тулуп, сальхов, и из последнего почти запарывает выход — он волнуется, хотя не перед кем.
В этой части надламывается все, он тянет руку ко мне, и мне пора.
Что теперь бояться? Стриптиз танцевал? Танцевал. О любви на всю Японию сказал? Сказал. За ручку к церкви привел? Привел. На год украл? Украл.
Людей, говорят, пока носом не ткнешь, они не увидят. Но стоит начать отрицать — все сами придумают.
Пора бы меня и его носом ткнуть.
Рука Юри, затянутая в черную перчатку, дрожит. Пальцы горячие и влажные.
Лицо зато — спокойное, почти спящее.
Трибуны шумят морем в ушах, музыки я не слышу — не одному Юри бояться.
Кому показательные, а кому исповедь. По секрету всему свету.
Оно всегда так, наверное, и горе вам, если вы еще парник, а партнерша — ваш лучший друг, или родная сестра, потому что что-то идет не так в определенный момент, магия пары на льду, как магия бального танца, не может рано или поздно не просочиться в мозги, спутывая вас ролью, заставляя верить, что человек, которого вы держите в руках, ваше все, единственное, завещанное. Все фигуристы — плохие актеры, не строят стену между жизнью и не-жизнью. Актерам показывают дорогу обратно, а нам — только в один конец. Как живешь, так и откатаешь, да? Хочешь, не хочешь, упадешь, влюбишься, откатаешь то, что что на льду оставил, где-нибудь и в жизни. И наоборот.
Юри легче, чем я боялся, адреналин делает свое черное дело, я несу его над синим льдом, Юри гнется в спине, запрокинув голову, зал шелестит ужасом.
Юри льнет всем телом, не теряя скорости, ложится в прогиб, наверное, вспомнив все наши занятия, такой он сейчас привычный к рукам, как бы эти руки ни тряслись.
Такое доверие — расплескать страшно, держи, Никифоров, держи, мудак, от его затылка до льда — полметра, разбить хватит.
Юри белеет гибким горлом, улыбается.
Мы расходимся для прыжка, сходимся снова, прогиб на вытянутых руках, пальцы подрагивают, а перчатка опасно скользит, и обнимаю я его за спину, притянув к себе на секунду, совсем не притворно.
Параллельное вращение, параллельная дорожка, параллельный прыжок — говорят, самая главная фишка и сложность синхронных выступлений в том, чтобы не смотреть на партнера, но этот номер — про другое, мы должны смотреть именно друг на друга. Кто знает, тот поймет, кто не поймет — тот, наверное, осудит, но пусть.
Пусть, неважно, потом, все потом.
Юри замирает на пару секунд раньше, тянет руку, не к трибунам — ко мне.
Замираю я.
Замирает музыка.
Свет загорается с задержкой, и мы стоим в секундной тишине, бесценной паузе перед аплодисментами.
Юри тяжело дышит, на его виске блестят капельки пота, его костюм, электрический синий, идет ему больше, чем мне мой малиновый, но он улыбается и медлит лишь чуть-чуть, прежде чем поймать меня за руку. И сжать так, что становится больно.
Юри не отпускает мою руку, пока мы не спускаемся в ложу, и потом цепляется за плечо, шумно дыша, даже обнимая огромную охапку цветов, даже фотографируясь с Пхичитом и Крисом, даже надевая чехлы на коньки. Если не держит рукой — касается одеждой, прислоняется виском, держит взглядом.
Выступление Пхичита — хороший номер, очень красивый, очень значимый и талантливый, даже слишком для показательной, — мы не досмотрели.
Нет ничего мучительней и приятнее, чем ожидание. Не путать с нетерпением — вы не начинаете раздеваться прямо в такси, сопя, как Дарт Вейдер, и теряя пуговицы. Вы не обтираете стены лифта, так, что зеркала запотевают. Вы не проноситесь мимо стойки администратора, краснея и здороваясь на ломаном английском. Нет.
Вы просто позволяете этому ощущению копиться внутри, накаляя вас добела, чувствовать, как оно бродит и воет, стучась в виски, как потеет спина и прилипает тонкий костюм, и в ласковой Барселоне вдруг делается холодно.
Страшно в этот момент посмотреть друг на друга. Рванет, как пары бензина.
Юри открывал дверь в номер. Я смотрел на его руки. Сравнительно безопасная траектория мысли. Все относительно. Глянешь на полыхающее лицо — свихнешься раньше времени.
Руки дрожали, карточка плясала в них и не попадала, куда надо.
Заусенцы на пальцах, короткие ногти, бугорок на среднем — Юри не так давно честно ботанил на сессии, и маме с папой с документами помогал. Мозоль на большом пальце, мякоть ладони на левой нехорошо рассечена, остался некрасивый белый шрам, который видно даже под черной лайкрой перчатки.
Юри открыл дверь и упал внутрь, споткнувшись.
Выпрямился и дисциплинированно разложил свой рюкзак, сумку с коньками и ключ, куда следует. Я запер дверь изнутри, наблюдая за его напряженной спиной и шеей — от щелчка двери Юри заметно дрогнул. Да, я тоже люблю этот фатализм запертой комнаты, предчувствие.
— Повернись.
Юри оглянулся через плечо. Потом деревянно развернулся всем телом. Смотрел, как я расстегиваю пальто. Я заговорил — высохшее горло ободрало, надо же, сколько мы, оказывается, молчали.
— Я год не надевал костюм. Этот — мой любимый.
— Мой тоже, — Юри говорил севшим голосом, повел плечами, скинул куртку, потом потянул за молнию на ветровке. Я стянул шарф с шеи.
— Я никогда не думал, что надену его опять, — я провел ладонью по серебряным пуговицам, атлас и тонкая сетка текли под рукой и были противно влажными. Юри проводил движение взглядом и повторил со своим костюмом.
— Я никогда не надеялся, что увижу тебя в нем в реальности, — признался Юри сорванным шепотом. — На льду. И уж точно не в моем номере.
— Мечтал?
— Может быть, — Юри облизал губы. На его плече блестело серебряное шитье, витой шнур спускался по груди. Реплика моего костюма была впечатляюще точной, только цвет…
— Почему не такой же?
— Нагло, — Юри расстегнул пуговицы на камзоле, наблюдая за моими пальцами. — И потом, розовое… я в розовом как хрюшка.
Я хотел засмеяться, но подавился, когда Юри поднял глаза — черные-черные. И шагнул вперед, выпутываясь из камзола. Вмазался ртом в рот, почти кусаясь, тут же присмирел, замер, стоило положить ладони на грудь — успокойся, не спеши так, смотри, какая красота, смотри на меня, смотри на себя, смотри, смотри, смотри.
Смотри, какие у тебя страшные, шальные зрачки, какой ты порочный, неожиданно томный и умелый в койке, за запертыми дверями. Смотри, как загорается кожа, когда нажимаешь и щипаешь. У нас полно времени. Теперь-то точно.
Юри гладил пальцами мой камзол, забирался под него и скользил по тонкой сетке нижней рубашки. Расстегивал молнии и крючки с почтением, свои — с чуть меньшим.
Застонал в голос, когда я опустился на колени и стащил с него узкие костюмные штаны. Задохнулся, поймав по мокрому поцелую в острые коленки, пискнул, когда губы заскользили выше по бедру, и больно дернул за волосы.
— Не так.
Я знал, как ему надо. Чувствовал, видел в зажмуренных глазах и отчаянно красных щеках — он упал на кровать и развел дрожащие коленки. Потом повернулся, прогибаясь в спине, вздохнул в подушку и затих, косясь поверх плеча, пока я искал в чемодане все, что нужно.
Спина была от пота горькая, липкая и горячая, когда я лег сверху, придавил, притираясь, и цапнул зубами за загривок — захотелось. Юри закричал.
И не успокоился, бился, как ненормальный, пока я раскрывал его, смазывал и готовил, и чем больше он орал и требовал, тем мне хотелось быть бережнее и неторопливее.
Когда я толкнулся, Юри заскулил и запустил руку под живот. Я дернул его к себе, обняв за грудь, поднял на разъезжающихся коленях, выгнул и повернул лицом к себе за острый подбородок. Взгляд плыл, Юри ошалело цеплялся за мои руки и громко дышал через рот. Я целовал его, двигаясь глубоко и медленно, придерживал за затылок, чтобы он не отстранился, гладил мокрую от пота грудь, живот, шею. Царапнул бедро, и Юри взвыл в мой рот, дергаясь всем телом.
Я дурел с него, меня тащило и размазывало, крюком за брюхо — и то под потолок, то об пол. Как будто мы оба накурились — и в то же время какая-то часть меня была предательски трезвой, там было пусто и прохладно, там знали, что все будет хорошо, главное — держать крепче.
Колени подвели уже меня, и я повалил Юри на постель, закончив все быстро, бешено и бесславно, но Юри, кажется, не жаловался. Он изворачивался и целовал мое перекошенное лицо, придерживая ладонью, прогибался и подавался, а потом судорожно зацарапал пальцами подушку, когда я вдавил его в матрас за затылок и широко лизнул между лопаток — морская соль. Спустился к крестцу, прихватил зубами дрожащую ягодицу — Юри забился, пачкая простыню.
Я лежал, уронив голову на поясницу, смотрел, как мои волосы прилипают к смуглой коже. Юри где-то с хрипом дышал в подушку.
— Так теперь будет всегда?
— Нет, — я был честен. — Еще пара-тройка раз, и я Русская Легенда посмертно.
Юри задрожал от смеха.
— …а потом вы еще и опаздываете на банкет, — Юрка затоптал чей-то окурок в асфальт с личной ненавистью. — А я стой и слушай, почему именно вы опаздываете.
— Не любо — не слушай, — я стоял, разглядывая дребезжащие мимо трамваи. — Чего ты вообще с нашими терся, делай раз — ушел к Алтыну, делай два — завел разговор про мотоциклы, три — вечер удался. Не надо было стоять и подставлять уши Миле, ты ее знаешь.
— Даже Отабек, предатель, — Юрка безнадежно привалился к перилам и сплюнул в воду. — Сказал: «Это было красиво».
— И за что тебе, такому долбоебу, такое сокровище? — я почти не шутил. Юрка злобно глянул из-под капюшона. Он был заспанный и хмурый, билет взял только на ранее утро, поэтому был еще больше не в настроении, чем обычно.
— О своем думай.
Ну, он хотя бы не крысился уже почти из-за своей непередаваемо печальной участи.
Отабек берег его со всей ответственностью старшего сурового брата. Звонил каждый день из Алматы, уточнял, поел ли Юра, выспался ли, позвонил ли деду, хорошо ли откатал сегодня. Юрка то таял, то бесился, нет ничего хуже обманутых ожиданий, подогретых лютыми предубеждениями, я даже отдаленно не представлял, что у бедного Юрки в башке, и как Алтын с этим справляется. Но он справлялся. Упорный малый, надо на заметку взять. Такие опасны.
— Потеряется же, недотыкомка.
— Не потеряется, — я смотрел на реку, едва подогретую тусклым солнцем, и медленно замерзал, ненавидя питерскую весну. И весну в принципе. — Он помнит, какой мост недалеко от Юбилейного. И станцию уже знает. И у него есть навигатор на крайний случай. Он сам просил не мешать ему исследовать город.
— Он телефон перевел на русский, — Юрка хрюкнул в рукав. — Сам видел. И навигатор тоже. «Рублиштейна двадцат чэтырэ».
— Москва не сразу строилась, знаешь ли. Если его нянчить, он так никогда не научится в городе ориентироваться. И по-русски говорить тоже. Отличная практика языка.
— Брось, короче, в воду и смотри, как поплывет, да?
— Что-то вроде этого, да.
— Тренер из тебя, как из говна айфон, — Юрка счастливо заржал. Я лениво улыбнулся. Пусть бесится. Неужто я не понимаю, что такое хочется и колется, и как от этого хочется всех вокруг достать до нервного тика.
— Вырасти, начни бриться, тогда будем разговаривать, Юрочка. А пока — допиздишься, искупаешься, солнышко.
— Я бы прямо вот посмотрел, как Яков пытается узнать, откуда у меня пневмония, что делать и кто виноват.
— Его не интересует, откуда у тебя в жопе ядерный реактор, Юра, о чем ты?
Юрка открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого скорчил рожу и замахал рукой, глядя мне за спину.
Я обернулся.
Юри бежал, на плечах подпрыгивал рюкзак.
Я был уверен, что он будет ждать меня дома, но он захотел встретить меня после тренировки и погулять по городу. Юрка увязался, как бы ему ни хотелось продемонстрировать, что пидарасы ему ненавистны, у него получалось очень плохо.
Я видел даже издалека, как у Юри покраснело лицо.
Как он задыхается.
Как у него отрасли волосы — куда лезут, две недели же только прошло!
Как у него блестят глаза и запотевают очки.
Как он улыбается, поймав мой взгляд.
— Шнурок развязался, — тяжело вздохнул за моей спиной Юрка. — Сейчас навернется.
— Не успеет, — сказал я.
И побежал навстречу.
*Placebo — My Sweet Prince. Совет — не читайте историю и подоплеку песни, можно очень просто притвориться, что она про любовь и секс, по крайней мере, первая ее часть, которая-то нам и треба.
Спасибо всем, кто здесь был. Автор закатывает рукава до пояса и садится отвечать на ваши прекрасные отзывы, которые сожгли меня в пепелище в самом начале забега.
Статус — завершено, однако я планирую еще три вставных главы здесь же, потому что мне очень хочется подержать на ручках Юрку, Отабека, Криса и Виктора в молодости и нужде.
Я люблю вас. Очень. Оставайтесь с нами.
Спасибо А., которая потребовала сделать Виктора человеком. Спасибо Арчи, который однажды бросил в меня Юрцами. Спасибо Джекки, который горел, как Жанна Д’Арк. Спасибо братцу, который является для меня бесценным и уникальным образцом того, какими невыносимыми и обожаемыми долбоебами могут быть младшие братья.
Спасибо вам всем.
И традиционный саундтрек «Поживем — увидим».
Новую короткую программу Юри ставит под Barbra Streisand — The windmills of your mind, произвольную — Les Friction — Torture. Показательная — Placebo’s Piano Cover — My Sweet Prince
Виктор — Il volo — My Way (F. Sinatra cover), и легендарная Зима А.Вивальди (потому что это играет в голове первым делом, когда видишь Витю, ну признайтесь, он мистер Зима). И «Аэропорты» Агутина на показательной, бгг.
Источник: ficbook.net
Ваш браузер не поддерживается
![]()
![]()
![]()
Наградить фанфик «Одержимость»
Работа принадлежит сборнику Killers ау
«Речь не о том, кто виноват, а кто нет. Динозавры тоже не были ни хорошими, ни плохими с точки зрения морали, однако же они вымерли», — Паланик, Колыбельная.
Саундтрек
xxxtentacion – Kill me
https://soundcloud.com/jahseh-onfroy/kill-me
— Я бы поехал к своему мастеру, он бы всё сделал, — Чимин сидит на пушистом ковре на полу огромной гостиной своего парня и, откинув назад голову, терпеливо ждёт, когда Намджун закончит закрашивать корни его волос. Пак последние два года красит волосы в платиновый блонд, и если бы не то, что этот цвет потрясающе на нём смотрится, он бы давно отрастил свой цвет волос. С платиновыми раз в месяц приходится осветлять корни, и вообще, возни много, но красота ведь стоит жертв.
— Для меня забота о тебе одно удовольствие, — улыбается Ким и, размешав в миске уже подсыхающую краску, вновь подносит кисть к голове парня. Замазав последний участок с выглядывающими тёмными корнями и проверив, что ничего не упущено, Намджун откладывает кисть в миску и, нагнувшись, легонько целует Чимина в шею.
— Я запах осветлителя не переношу, — жмурится Пак. — Сам не пойму — чихну или не чихну сейчас.
Намджун смеётся, а потом разворачивает его лицом к себе и оставляет короткий поцелуй на сморщенном носике.
— Через двадцать минут смываем, не хочу, чтобы моя белоснежка облысела, — Ким продолжает легонько касаться пухлых губ.
— Я не белоснежка, — обиженно бурчит Пак и, стараясь не задевать рубашку Намджуна своими волосами, утыкается носом ему в шею.
— Ты моя маленькая белоснежка, продолжай упираться, но это факт, — беззлобно смеётся Намджун и предлагает выпить кофе, пока они ждут, когда волосы осветлятся. Чимин знает, что после кофе Намджун разденет его, усадит в середину огромной ванны и сам лично медленно смоет всю краску с волос парня — долго будет намыливать его волосы, потом всё тело, вымоет, завернёт в мягкое пушистое полотенце и на руках перенесёт в спальню. Это уже традиция, и Чимину она нравится. Намджун обволакивает его нежностью и заботой, можно сказать впервые с ними знакомит, и Пак ему за это благодарен. За такую трепетную любовь младший не позволит Киму уснуть, и с утра они оба будут на работе не выспавшимися, но счастливыми.
Четыре месяц назад. Флэшбек
Чимин впервые встретил Намджуна через полтора месяца работы в холдинге Кима. Пак устроился помощником главного юриста компании, и это далось ему совсем не легко. Три этапа проверки и собеседование с самим Ким Сокджином, который вёл все юридические дела холдинга и считался одним из лучших юристов страны. Но Чимин проверку прошёл. Бессонные ночи, проведённые за книгами, принесли свои плоды — Чимин наконец-то получил своё.
Пак только начинает вливаться в коллектив, почти не спит по ночам, изучая все те документы, которыми их заваливает Джин, приходит в офис раньше всех и всё пытается не ударить лицом в грязь. Он столько лет учился, он через столькое прошёл ради этой работы и не может потерять её, так что парень решает, что отоспится на том свете. Джин будто нарочно грузит его, не даёт продохнуть, но Пак решает, что это своего рода проверка старшего, и делает всё, что в его силах, чтобы её пройти.
Юридический отдел находится на пятнадцатом этаже холдинга, и Чимин никогда не поднимался на оставшиеся два этажа, где по словам Джина располагается офис президента холдинга и кабинеты его приближённых. Джин сам лично поднимается к боссу за поручениями и докладами. Чимин никогда не видел главу холдинга, но за месяц работы достаточно о нём наслушался, особенно от всего женского персонала отдела. По слухам, Ким Намджун властный и красивый молодой человек, ради внимания которого все сотрудницы холдинга готовы на всё. Намджун не женат и более того славится своими частыми интрижками. Люси, секретарша Джина и единственная девушка, с которой Чимин перекидывается парой слов на кофе-брейке, рассказывает, что Намджун строгий босс, который не прощает ошибок, и Джин сам очень сильно его боится. Люси, которой двадцать пять и которая будто сошла с обложки модного журнала, признавалась Паку, что готова на всё, чтобы обратить внимание Кима на себя. Более того, по её словам, она часто спускается вниз в надежде на то, что столкнётся с ним, когда он приезжает в офис. Те десятки столкновений девушке, видимо, не помогли, потому что сегодня весь день она рассказывала Паку очередной план по завоеванию сердца Намджуна.
Чимин заканчивает проверять договоры, высланные ему Джином только к десяти часам вечера, и, только закрыв ноутбук, понимает, что он единственный, кто остался в отделе. Собрав в папку некоторые бумаги, которые он решает проверить уже дома, Пак потягивается в кресле и, размяв шею, встаёт на ноги. Поправив очки на переносице и надев пиджак, он идёт к лифту, который спускается сверху. Стоит дверце лифта отъехать, как Чимин отшатывается назад, подряд несколько раз моргает, но картинка не затирается — напротив него стоит Ким Намджун.
— Я дождусь следующего, — с трудом переборов в себе дикий панический ужас, говорит Чимин.
— Я не кусаюсь, а ждать долго, так что проходи, — с усмешкой заявляет Ким и делает шаг вправо, пропуская внутрь паренька с прижатой к груди папкой.
Намджун ещё раз мажет по нему бесцветным взглядом и сразу теряет интерес. Чимин выдыхает, когда мужчина отворачивается к дверце, и с трудом успокаивает заходящееся в груди сердце.
— Ты у Джина работаешь? — резко прерывает тишину Ким, так и не оборачиваясь.
— Да, — выходит слишком жалостливо, и Пак приказывает себе собраться.
У Намджуна даже голос тягучий, зазывающий, Чимину приходится лопатками к стенке лифта прислониться, чтобы предательски дрожащие колени ему выстоять не помешали. Он сам не понимает, почему этот мужчина так на него действует, но места в лифте внезапно для двоих слишком мало, Пак задыхается.
— Я тебя раньше не видел, — Намджун наконец-то поворачивается к нему, и Чимин думает, что лучше бы он этого не делал. В каждом движении, в каждом слове этого мужчины концентрация такой подавляющей силы, что Паку кажется, он его этой силовой волной по железным стенкам лифта расплющит.
— Я… — Чимину приходится прокашляться, чтобы придать голосу хоть маломальскую уверенность. — Я недавно устроился.
— Нравится у меня? — спрашивает Ким, приподняв бровь, и будто сканирует парня взглядом.
— Нет, — выпаливает Чимин и всё смотрит на табло в надежде уже увидеть там заветную цифру «один».
Намджун поражается смелости паренька, не успевает скрыть удивление на своём лице. Он на несколько секунд задерживает взгляд на Чимине и, не удержавшись, спрашивает «почему».
— Слишком много работы, мизерные сверхурочные, кофе-машину не чистят, транспорт, если приходится задержаться до полуночи, не предоставляют, — на автомате произносит Пак. — Мне продолжить?
— Достаточно, — с улыбкой говорит Ким. — Думаю, я тебя понял.
Намджун, видимо, считает достаточным обмен любезностями и снова поворачивается к дверце. Чимин делает глубокий вдох и чуть не подпрыгивает от счастья, когда лифт останавливается на первом этаже. Ким выходит первым и в окружении ждущих его внизу двух охранников идёт к выходу из офиса. Чимин проходит к диванчику в холле и, упав на него, расстёгивает две верхние пуговицы на своей рубашке. Ему кажется, что кислорода не хватает, как бы глубоко он ни пытался вдохнуть — надышаться не получается. Пак с трудом справляется с приступом паники и покидает здание офиса только через десять минут, убедившись, что автомобиль босса отъехал.
Следующим утром стоит Чимину усесться за своё место, как Джин требует его к себе. Пак на пути в его кабинет мысленно проходится по всем недавним документам, думает, что он по пять раз проверил каждый договор и ошибок быть не может.
— Мы сейчас поднимемся к боссу, — Джин не поднимает голову от бумаг. — Не знаю зачем, но он приказал привести тебя. Старайся молчать, говорить и отвечать буду я. Очень надеюсь, что ты нигде не накосячил, — Джин захлопывает папку и, встав на ноги, поправляет пиджак.
Пока лифт везёт их наверх, Пак судорожно сжимает полы своего пиджака, придумывает в голове сотни сценариев того, почему и зачем его вызывают в кабинет главного, и получает нагоняй от Джина за то, что помял одежду.
У Намджуна большая и отделанная в минималистическом стиле приёмная и очень красивая белокурая секретарша. Но приёмная, по сравнению с кабинетом, оказывается крохотной. Огромный кабинет вмещает в себя, помимо стола и кресла главного, ещё два кожаных дивана, большой прямоугольный стол для переговоров, бар у стены и даже бильярдный стол в углу. Чимин мнётся на пороге, не знает входить или нет, смотрит куда угодно, но не на сидящего за столом мужчину и мечтает провалиться сквозь пол. За грудиной подскрёбывает внезапно появившийся страх, что это конец, что его раскусили, что он не успел сделать даже первого шага и всему наступил конец. Чимин знает, что он сейчас бледный, как смерть, но надеется, что Намджун спишет это на испуг перед начальником, что всё-таки не догадается. Как бы Пак ни старался себя успокаивать, выходит из рук вон плохо. Паника разливается по сосудам, и Чимин боится сделать шаг, будучи уверенным, что запутается в собственных же конечностях.
Джин тем временем подходит к столу босса. На одном из диванов сидит неизвестный Паку парень с волосами цвета бургунди, и он, в отличие от игнорирующего Чимина Намджуна, глаз с него не сводит. Чимину от этого взгляда неуютно. Эти глаза под самую кожу пробираются, нутро вымораживают. Незнакомец щурится, облизывает парня взглядом с ног до головы, и Пака от пронзительности его взгляда пробирает дрожь.
— Чего ты там застыл? — обращается к Чимину Намджун. — Проходи, садись, — Ким рукой показывает на кресло напротив своего стола. Во втором уже уселся Джин.
— Времени у меня мало, так что перейдём сразу к делу, — Намджун смотрит на Джина. — Мия со своими обязанностями не справляется, искать новую помощницу нужно время, и, главное, ты же понимаешь, какая проверка для этого нужна, — хмурит брови Намджун, и Джин кивает. — Думаю, твой помощник сможет её заменить.
— Я закончил Гарвард, — Чимину слишком обидно, чтобы молчать или чтобы продолжать бояться. — Я убил на юриспруденцию лучшие годы своей жизни не для того, чтобы подавать вам кофе, — он впервые поднимает взгляд на Намджуна и смотрит ему прямо в глаза.
Парень с красными волосами прыскает в ладонь, а потом, встав, присвистывая, направляется к бару.
— И я это уважаю, — спокойно говорит Ким Чимину, с трудом скрывая улыбку. — Хосок, — обращается он к красноволосому, — успокойся.
— Но при этом предлагаете мне, ах простите, даже не мне, а моему боссу, потому что я, видимо, пустое место и моё мнение не важно, стать вашим секретарём? — негодует Чимин и игнорирует колючий взгляд Джина.
— Ты прав, — Намджун откидывается на спинку сиденья. — Я повёл себя по-свински. Начнём заново. Мой секретарь — это не просто человек, делающий мне кофе, это моя правая рука, мой помощник, тот, кто наравне со мной ведёт дела холдинга. У тебя юридическое образование, как мы видим, подвешенный язык и приятная внешность. У Мии, как оказалось на деле, реальным было только последнее. Мне срочно нужен квалифицированный помощник, так как в ближайший месяц я ожидаю новые крупные соглашения и дел будет по горло. У тебя отличная зарплата, два выходных и оплачиваемый отпуск. Плюс ко всему, я дам тебе шофёра компании и щедро буду оплачивать сверхурочные, — подмигивает парню Ким. — Все предложения ты получишь в письменном виде сегодня же, и тебя никто не заставляет, если откажешься от этого предложения — будешь так же работать у Джина. Ты подаёшь большие надежды, и терять кадр из-за моей идеи забрать тебя наверх — мы не будем. Поэтому сегодня вечером всё обдумаешь, и какое бы ты решение ни принял, я с ним соглашусь. А теперь возвращайся к своей работе.
Чимин пытается прочувствовать подвох, найти повод и дальше злиться на этого самоуверенного хама, но не выходит. Намджун вроде говорит искренне, и если это не блестящая игра, то такой расклад Паку только на руку.
— Хорошо, — Чимин встаёт на ноги. — Я подумаю, — говорит он и идёт на выход.
— Надо же, я думал, ты своих сотрудников в ежовых рукавицах держишь, — усмехается Намджун Джину.
— Он новенький, простите мне эту оплошность, — опустив голову, просит Джин.
— Прощаю, — взмахивает рукой Ким и просит Хосока налить и ему коньяк. — Я заберу его наверх на испытательный, если будет справляться, оставлю тут, если нет — верну тебе.
— Он упёртый и гордый. Все те, кто за бугром учится, слишком большого мнения о себе, — фыркает Джин. — Думаете, он согласится?
— Уверен, что согласится. А ты тем временем перепроверь его биографию, а потом положи мне её на стол. Он должен быть чистым.
— Я уже проверял перед тем, как на работу взяли, он чист, — моментально отвечает Джин.
— Проверь ещё раз, — ледяным тоном приказывает Ким, и Джин, поклонившись, выходит из кабинета.
— Жаль Мию, она очаровательная девочка, — Хосок ставит бокал перед Кимом и опускается в кресло.
— Очаровательно она только отсасывает, тупая, как пробка, — Намджун делает глоток и прикрывает веки в удовольствии.
— Почему именно этот блондинчик? — прищурившись, спрашивает Хосок.
— У него отличное образование. Я проверял вчера его отчёты — он ответственен, приятная внешность, и главное он парень, надоело слышать бабье нытьё, — говорит Ким.
— Когда ты успел-то, ты вчера последним из офиса ушёл, — недоумевает Хосок.
— Я столкнулся с ним в лифте, а потом разбудил Джина и потребовал выслать мне отчёт по его работе, вот и всё.
— Так почему именно он?
— Сперва, потому что просто стало интересно, а потом в одном из отчётов я нашел кое-что интересное. Помнишь наши тёрки с китайцами? Ту сноску в договоре, подписание которого принесло бы мне огромные убытки, увидел и правильно расшифровал именно Пак Чимин, а не Ким Сокджин, хотя последний утверждал, что это именно он. Мне нужна эта внимательность.
— Тебе лучше знать, — пожимает плечами младший. — Я своей слепоте поражаюсь, как я не заметил такого мальчика в офисе.
— И не думай, — резко отрезает Намджун и возвращается к делам.
Чимин принимает предложение Намджуна. Работать у Кима оказывается тяжелее, чем у Джина, но Чимин любит работать и, не закончив дела, домой не уходит. Первые дни, пока он только привыкает к новому месту, он даже на обед не выходит, полностью погружается в свои обязанности и пытается показать себя с лучшей стороны. Его бывший отдел, в частности Люси, даже здороваться с ним отказываются, девушка демонстративно отворачивается, когда Пак встречает её внизу в холле. А потом Чимин, благодаря уборщице, отвечающей за кухню на этаже босса, узнаёт, что его бывшие коллеги считают, что он спит с Намджуном, иначе с чего это какому-то зелёному пацану стать чуть ли не его правой рукой. Чимин после этого сам решает ни с кем не здороваться.
Намджун напрямую с Паком говорит редко, в основном он проходится с ним вместе по расписанию утром, а потом Чимин носит ему кофе или сопровождает посетителей. Намджун всегда сразу же выставляет его за дверь и на встречах присутствовать не разрешает. Пак всё больше вливается в работу, тщательно изучает переданные в его ведение документы и всё запоминает.
Почти каждый день к боссу приходит Хосок, от которого у Чимина всё ещё мурашки по коже. Чимин прекрасно знает, кем приходится Намджуну Хосок, и знает, что все дела эти двое решают вместе. Ким, не посоветовавшись с Хосоком, важных решений не принимает. Этот парень смотрит на Пака так, что тот чувствует себя голым и всё время придумывает кучу дел, почему ему надо отлучиться от своего стола. Есть в Хосоке что-то тёмное и пугающее, и пусть эта темнота иногда проскальзывает и на дне зрачков Намджуна, но в Хосоке будто концентрация больше. Этот мрак от него расползается и, когда он рядом, Чимин в плен этой темноты попадает — приходится себя в реальность буквально за шкирку возвращать. А этот прищур блядский Чимину в его снах снится, Хосок одним взглядом Паку вены-сосуды перетягивает, пока зону видимости не покинет — Чимину в кровь кислород не поступает.
Через месяц работы секретарём Пак полностью вливается в дела Намджуна, точнее в те дела, которые в открытом доступе. Чимин знает, что его босс делает такие деньги не только благодаря тому, что занимается транспортировкой тяжёлых грузов и купил большую часть акций главного аэропорта страны. Но Пак восхищается Намджуном, его деловой хваткой и очень хочет, чтобы тот подпустил его ближе, хотя бы так, как Хосока. Чимину это очень надо — буквально вопрос жизни и смерти, но Ким так не считает, держит парня на расстоянии. Намджун не спешит посвящать Чимина в свои дела, требует от него лишь прописанные в контракте обязанности и только иногда, очень редко, задерживает на нём взгляд больше чем на секунду, в такие моменты Чимину кажется, что всё вокруг блекнет и отходит на второй план, остаются только эти чёрные, как дно бездонной пропасти, глаза. Чимину перед этим взглядом неловко, он сразу краснеет, опускает взгляд к полу и, не дождавшись дальнейших указаний, покидает кабинет. Пак в этом офисе по острию лезвия ходит — один неверный шаг, и его надвое разрежет, и ничего, если это случится потом, когда он всего добьётся, сейчас рано, ошибок делать нельзя.
Всё происходит в субботу, в день рождения знакомого Чимина. Ви, так зовут знакомого, празднует свой день рождения в лучшем клубе города, и Чимин, который из-за работы в офисе уже сливается со своим серым костюмом, наконец-то впервые за долгое время делает макияж, отбрасывает в сторону очки и, надев чёрные кожаные брюки и футболку, направляется в ночь. Он успевает выпить три бокала лонг-айленда прямо на танцполе, потому что танцы — это страсть Чимина, когда телефон в кармане вибрирует и имя, высвеченное на экране, заставляет его выбежать на улицу. Намджун срочно требует утренний договор, который Пак должен был передать Джину, а потом забрать. Чимин всё так и сделал, но Ким не сказал отдать потом договор ему, и поэтому бумаги сейчас в офисе. Намджун требует срочно забрать договор из сейфа и передать шофёру. Чимин пытается возразить, объясняя, что он на вечеринке, но Ким даже не слушает, обещает премию и отключается. Чимин выругивается сквозь зубы, возвращается в клуб и, забрав кожанку, обещает Ви вернуться.
Чимин проходит в офис со своим пропуском, который всегда в бумажнике, достаёт из сейфа документы и пытается вспомнить, куда он положил свой мобильник, пока рылся в бумагах. Надо позвонить шофёру босса и узнать где он. Только Пак замечает торчащий из-под папок телефон, как слышит звук открывающейся дверцы лифта. Чимин то ли от паники, то ли от того, что нетрезв, не придумывает ничего лучше, чем спрятаться. Он садится на пол за столом и следит за ногами незнакомца, идущими в его сторону. Чимин понимает, что это Намджун по запаху его любимого парфюма. Он кусает от нервов губы, очень не хочет, чтобы босс его застал в таком виде, но Намджун не слепой и валяющуюся на кресле кожанку сразу замечает.
— Что ты делаешь под столом? — спрашивает Ким, и Пак понимает, что попался.
— Я уронил бумаги, — бурчит Чимин, но не вылезает.
— Может, уже вылезешь?
— Нет, то есть да, то есть… — запинается Пак.
— Ты чего прячешься? — Намджун обходит стол и останавливается напротив сидящего на полу парня.
Чимин под его взглядом напрягается, даже колени к груди притягивает, словно спрятаться, скрыться пытается. Намджун смотрит, как оголодалый зверь, будто он сутками по лесу мотался, с голоду подыхал, а тут ему добычу освежевали и на блюдечко положили. Ким облизывается — Пак шумно сглатывает.
Намджун красивее никого в своей жизни не видел. Пак Чимин сногсшибательно красив. Он сидит на полу, прижимая к груди колени, у него размазанный на веках карандаш, обкусанные от нервов и полыхающие алым огнём губы, обтянутые кожей роскошные бёдра, а самое притягательное это выглядывающие из-под чёрной футболки молочные ключицы. Намджун скрежет своих же зубов слышит, в кулаки ладони сжимает, лишь бы не сорваться. Но срывается. Потому что Пак Чимин блядски красив и смотрит снизу вверх, как самая дорогая проститутка города — Намджун не железный.
Намджун трахает его там же, в своём кабинете, на своём кожаном диване. Чимин чувствует себя героем порно ролика, которых обычно боссы на таких же чёрных кожаных диванах имеют, но Пак не отказывает: сам ноги разводит, сам притягивает, сам насаживается. Ногтями кожаную обивку раздирает, зубами рвёт, пока Намджун его лицом в диван вжимает и на свой член натягивает. Чимин хрипит, отчаянно губами воздух ловит и сильнее выгибается, подставляется, позволяет Киму вертеть его, как только тот пожелает. Похоть разум туманит, вытесняет из головы все мысли и цели — оставляет два раскалённых тела, обжигающих друг друга на диване. От напора и жара Намджуна у Чимина вся кожа будто волдырями покрывается, но эта пытка такая сладкая, такая безумная, он сам всё равно тянется, снова и снова возвращается, молит не отпускать, не отходить, не оставлять.
В клуб к Ви Пак не возвращается. Шофёр Намджуна увозит его домой с горящими от стыда щеками, с приятной ломотой в костях и вымотанного длительным секс марафоном.
С понедельника в офисе всё как обычно, будто ни на этот стол день назад Намджун его усадил и впервые поцеловал, будто ни в этот кабинет он перенёс его после и трахал ни на этом диване. Чимин весь день взгляда от пола не поднимает, стоит глянуть на мебель, и он себя отдающегося Намджуну видит.
Чимин отгоняет ненужные сейчас воспоминания, возвращает внимание к бумагам и вздрагивает от букета нарциссов, словно с неба упавших на стол. Пак поднимает глаза и понимает, что это вовсе не божий промысел — напротив стола скорее стоит правая рука Сатаны, если не он сам, иначе как объяснить то, что Чимин рядом с Хосоком будто раскалённых углей наглотался, они застряли поперёк горла, обжигают.
— Это тебе, — говорит Хосок с усмешкой.
— Я тебе что, девчонка какая-то? — возмущается Пак.
— Успокойся, я просто люблю нарциссы, а ты похож на них, — Хосок кладёт руки на стол и приближает лицо к парню. — Такой же беленький, вкусно пахнущий.
— Ты психопат, — бурчит Чимин и впервые цепляет взглядом выглядывающую татуировку на запястье Чона.
— Тату ассасинов? — удивлённо спрашивает его Пак. — Ты что типа ассасин? — нервно смеётся парень.
— Знаешь парней с татухами, как у зеков? Думаешь, они сидели? Неа, — цокает языком Хосок. — Вот и я повыёбываться люблю, набил татуху ассасинов. Только странно, откуда ты рисунок знаешь.
— Мой друг тату-мастер, я, когда у него сижу, альбом эскизов листаю, — пожимает плечами Пак и встаёт на ноги, заметив вышедшего в приёмную Намджуна.
Тот просит у секретаря кофе и зовёт Хосока внутрь.
Чимин ставит цветы в вазочку и возвращается к работе. Вечером того же дня Намджун высылает за ним машину со словами, что он должен присутствовать на важной встрече. Чимин не ругается, когда встреча оказывается свиданием, они чудесно проводят вечер и заканчивают его в огромной постели Кима, где Пак всю ночь стонет, а, вконец охрипнув, лишь ноёт.
Намджун берёт Чимина напором, не завоёвывает, не ухаживает, даже не спрашивает — как таран, врывается в его жизнь, всё за него решает, обо всём сам лично распоряжается. Чимину нравится ничего не решать. Ещё Чимину нравится Намджун. Вся та сила и власть, которой он обладает, дико привлекают. Чимин видел Намджуна в деле и его целеустремлённости и несгибаемости поражается, даже восхищается. Киму никто не отказывает, Пак знает тех, кто пытался, но обычно в такие дни Намджун зовёт Хосока, и тот, получив задание, уходит. Когда Хосок возвращается вечером в офис, у него улыбка психопата, будто он под чем-то, и отличное настроение. Парни, может, Чимина и за идиота держат, но Пак знает любимый сорт наркоты Хосока — это чужая боль и кровь. Он смиренно опускает голову в бумаги, притворяется дурачком и не вмешивается.
Чимин отрицать свою тягу к Киму и не пытается, сам к нему тянется, сам встреч ждёт и, как школьница, каждое утро в офисе перед ним краснеет, хотя всю ночь до этого мужчину своим блядством до изнеможения доводит.
Чимин переезжает к Намджуну через месяц и остаётся работать его секретарём. Даже несмотря на то, что они живут вместе, и на чувства, отрицать которые ни один из них не собирается — Чимин всё равно в душе обижается, что Ким не подпускает его близко к своим делам и в офисе держит на расстоянии. С Намджуном хорошо, Ким души в Паке не чает, балует, ухаживает, всячески потакает его желаниям. Чимин даже после того, как переезжает к Намджуну, продолжает получать нарциссы от Хосока. Пак не до конца понимает странное поведение друга своего парня и молча по утрам меняет цветы в вазочке.
Первый поцелуй с Хосоком случается на вечере празднования нового контракта. Чимин выходит из туалета и поправляет перед зеркалом волосы, когда туда входит Хосок и запирает за собой дверь. Пак не успевает и рта открыть, когда парень разворачивает его лицом к себе и, вжав задом в раковину, жёстко целует.
— Какого чёрта? — кричит Чимин и отталкивает от его себя, но Хосок заламывает его руки, вновь притягивает к себе и вновь впивается в губы.
— Я с ума по тебе схожу, а ты выбрал его, — шипит ему в губы Хосок и зубами больно оттягивает нижнюю губу.
— Ты больной, — растерянно говорит Пак.
— Я тобой одержим, — горько усмехается Хосок и отходит, позволяя Паку пройти.
— А я тобой нет! — выкрикивает ему в лицо Чимин и выходит, думая, что лучше Чону не знать, чем именно одержим Пак.
В ту ночь в постели с Намджуном Чимин всё не может собраться, рассеянно отвечает на вопросы Кима и, сославшись на головную боль после вечеринки, просит его не трогать. Чимин глаз до утра не смыкает, так же как и пальцы от горящих адским пламенем губ убрать не может.
Ничего в поведении Хосока не меняется — он часто с ними в клуб ходит, присутствует на совещаниях и, вообще, ведёт себя так, будто ничего не случилось. Но Чимин всё равно периодически ловит его пронизывающий до костей взгляд и сразу отворачивается, понимая, что вынести его не в состоянии.
Намджун осыпает Пака подарками, всё чаще начинает говорить о том, что тому не надо работать, и предлагает купить дом и съехать с квартиры. Просто Чимин когда-то сказал, что хочет завести собаку и не какую-то, а хаски. По словам Кима, такой собаке нужен большой двор и простор и, вообще, собственный дом и беседка на лужайке идеальны для совместной жизни.
Чимин тему переводит, всё тянет, так быстро двигаться в их отношениях пока не хочет. У Чимина другие планы, и совместный дом в них никоим образом не входит.
Как бы иронично это не было, но с Хосоком Чимин впервые трахается в кабинете Намджуна. Ким уезжает на встречу с партнёрами, а Пак остаётся доделать дела в офисе, хотя на самом деле он хочет порыться в кабинете Намджуна. Он хочет узнать, что за дела у его парня с японцами и почему для Пака доступ к файлу Japan заблокирован. Стоит Чимину зайти в кабинет Намджуна, как он вздрагивает от громкого хлопка двери за собой, и в следующую секунду на него смотрят те самые глаза, взгляд которых Чимина до озноба пробирает.
— Прибраться решил? — язвит Хосок и начинает наступать.
— Может быть, — не теряется Чимин.
Хосоку знать о цели его визита в кабинет не надо.
— Я тебе помогу, — Хосок подходит до тех пор, пока Чимин не упирается в стол.
— Намджун сейчас придёт, и лучше тебе… — договорить Чимин не успевает, потому что Хосок, приподняв его за бёдра, сажает на стол и разводит ноги.
— Ты совсем… — Хосок затыкает Чимина, целует больно, до ранок на губе, будто жизнь из него высасывает, будто мстит за что-то. Скорее заражает, в полопавшиеся ранки пущенную Чимином свою же кровь пускает, отравляет собой, привязывает. Чимин сопротивляется, даже бьёт пару раз, но Хосок сильнее, он грубо разворачивает парня и, вжав лицом в стол, с треском рвущейся ткани, стаскивает с него брюки.
— Пусти, я ему скажу, — чуть ли не молит его Пак, хотя старается звучать твёрдо, не показывать свой страх.
— Скажешь, обязательно, — шепчет ему на ухо Хосок. — Но после того, как я тебя выебу.
Чимин чувствует стояк, упирающийся ему в задницу — Хосок дразнит, трётся тканью брюк об него, царапает нежную кожу, оттягивает своё удовольствие.
— Не смей, — Чимин забывает о гордости и чуть ли не плачет. — Это ошибка, не делай этого, я не хочу.
— Хочешь, — Хосок больно кусает мочку уха, оттягивает зубами. — Я вижу это в твоих глазах, я чувствую это, когда ты просто стоишь рядом, ты и сейчас течёшь, как сучка, кончай ломаться.
Хосок расстёгивает свои брюки, грубо разводит ягодицы парня и плюёт прямо на колечко мышц.
— Уверен, Намджун тебя каждый день трахает, я бы так и делал, потому что ты, сука, настолько горячий, что меня одним взглядом плавишь, — Хосок оставляет смачный шлепок на правой ягодице парня и не реагирует на его отчаянный скулёж. — Ты мой, ты должен быть моим, я даже ему тебя не отдам, я первый тебя заметил, — как в бреду шепчет Хосок и грубо растягивает Чимина пальцами.
— Пожалуйста, Хосок, — скулит Пак.
— Повторяй моё имя, я душу за это продать готов, давай же, повторяй, — Хосок приставляет головку и сразу вгоняет член до самого основания, предварительно ладонью прикрыв рот парня. Чимин кричит в чужую руку, а потом вгрызается в пальцы зубами и кусает до крови, но Хосок не реагирует, грубо трахает его прямо на столе Намджуна, а стоит найти правильный угол, убирает руку ото рта Чимина и упивается обрывистыми «Хосок» с его губ.
У Чимина перед глазами плывёт от напора, все его ощущения и чувства концентрируются внизу, на члене, который так глубоко в нём. Хосок открывает в Паке самые потайные желания, бросает его в океан похоти и страсти. Когда Хосок поворачивает Чимина лицом к себе и, закинув на плечи его ноги, снова насаживает на себя до упора, то тот уже сам подмахивает, задирает до груди свою рубашку, позволяет Хосоку хозяйничать как на его теле, так и внутри него. Чимина трясёт под Хосоком и не только от толчков, он физически этот вирус чувствует, болезнь по крови распространяется, до всех уголков доходит, Чимину его из себя не вытравить — от странной одержимости не избавиться.
Намджун домой приходит под утро, Чимин притворяется спящим. До этого он час сидит в ванной и тщательно проверяет себя на наличие следов от Хосока.
С того вечера в офисе у Пака начинается новая жизнь. Намджун Хосоку доверяет — Чимину везёт. У Хосока нет моральных принципов — Чимину вдвойне везёт. Пак стонет под Намджуном и кусает язык, лишь бы не сорвалось «Хосок». Он любит Намджуна, но трахается и с Хосоком. Чимина на куски его мысли и желания рвут, он окончательно тонет в этом мареве и всё оставляет на потом, всё оставляет на завтра. Обещает себе, что разберётся, но сам даже себе не признаётся, что в прогнившем болоте лжи тонет, вкус булькающей в лёгких гнили разве что на языке не чувствует.
Каждую ночь Чимин выгибается под Намджуном, а днём, стоит улучить момент его отсутствия — он трахается с Хосоком. Они не гнушаются ничего, ни грязных кабинок туалетов, ни сидений автомобиля, даже умудряются потрахаться в подъезде их с Намджуном квартиры. Чимин разрывается между двумя — он хочет обоих. Его ведёт от умеренной нежности Намджуна, и крышу срывает от дикости и жестокости Хосока.
Чимин свой выбор снова оставляет на завтра, в очередной раз густо красит ресницы и идёт с Намджуном в клуб, в туалете которого его обязательно будет трахать Хосок. Чимин теперь всегда растянут, всегда готов. Намджун думает для него, Чимин и не отрицает — для обоих. Пак этого всего не планировал, но отказываться ни от одного из них пока не намерен. Его эти грязные отношения с ума сводят, будто жизнь в него вдыхают. Чимин изначально знал, что будет так грязно, но не думал, что настолько. Он посеял семя лжи, а теперь оно разрослось и окутало его полностью, по пути завлекая в свои заросли и третьего человека, которого там вовсе быть не должно было.
Так всё это и продолжалось бы, всё тянулось бы до «идеального» времени и места, если бы в офисе не стало происходить что-то странное. Намджун стал нервным, с Чимином не делился, но Пак видел по часто бегающему наверх Джину, что происходит что-то плохое. Чимин однажды случайно в постели заметил, как Ким переводит огромные суммы куда-то, он бы не удивился, если бы это были его офшорные счета, но Пак знает, где деньги Намджуна. Потом Ким стал чаще говорить о переезде, и Чимин узнал, что он выставил на продажу акции компании.
В ту ночь Хосок приехал к ним, и Намджун почти до рассвета сидел с ним в гостиной, они что-то усиленно решали, притом стоило Паку войти — оба умолкали. Чимин, поняв, что ему никто ничего объяснять не будет, ушёл спать. Когда утром Пак, оставив видимо только под утро уснувшего Намджуна в постели, пошёл на кухню за кофе, то вместо кофепития он оказался на подоконнике и, запихав в рот футболку Хосока, кончал себе на живот, пока тот втрахивал его в пластиковое покрытие. Осознание того, что в соседней комнате спит его мужчина, а трахает его друг, брат, партнёр первого на его же подоконнике, в его же квартире — заставило Чимина кончить почти сразу же. Хосок только грязно ухмыльнулся и, вылизав рот парня, как ни в чём не бывало пошёл дальше варить себе кофе, оставив Чимина на подоконнике со стекающей по внутренней стороне бёдер спермой.
Когда Пак вышел из душа, Хосока уже не было. Намджун вылез из постели к полудню и, бросив Чимину «собирай свои вещи, мы завтра улетаем», уехал в офис. Чимин сполз по стене на пол, обхватил голову руками и стал судорожно думать, что и как ему сделать. Поняв, что дальше тянуть больше нельзя, он вызвал такси и тоже поехал в офис. Те три часа, что Пак провёл в офисе, он ловил каждый взгляд, каждый вздох и слово Хосока, он даже урвал поцелуй на кухне, пока делал своему боссу и парню кофе.
Приехав домой, Чимин сразу приступил к подготовке. Пак приготовил любимое блюдо Намджуна, открыл бутылку его любимого вина, расставил бокалы, зажёг свечи и уселся ждать. Ким приехал домой обозлённым и уставшим, но, увидев всё, что Чимин подготовил для него, настроение сменил, долго целовал парня, а потом уселся за стол. Чимин лично обслуживал Намджуна, сам накладывал ему блюда и подливал вина.
Когда Пак начал подавать горячее, то Намджун расслабил галстук, а потом и вовсе стащил его. Ещё через несколько минут он попросил Чимина открыть окно, а потом, извинившись за плохое самочувствие, с трудом поднялся со стула и пошёл в спальню. Но до кровати Намджун не дошёл, он осел на пол, едва перешагнув порог.
— Тебе плохо, любимый? — Чимин обходит уже лежащего на спине и тяжело дышащего парня и садится рядом на паркет. Намджун смотрит на Пака не в силах открыть рта. Он пытается пошевелить конечностями, но они будто парализованы, тело ему больше не подчиняется.
— Что у тебя болит? — участливо спрашивает Чимин и нагибается к лицу парня. — Хочешь, массаж сделаю? Хотя нет, — прикладывает ладонь к губам парень. — Скажи, что болит, и мы это отрежем, избавим тебя от боли.
Только сейчас Намджун замечает в руке Пака кинжал, который когда-то был в его сейфе.
— Я тут твою любимую игрушку позаимствовал, — продолжает Чимин и удобно располагается рядом. — Ты же не против? Ты такой смешной, не умеешь расставаться с тем, что любишь, а ведь я его помню, — Пак подносит кинжал к глазам, взмахивает им пару раз.
Намджун продолжает силиться, чтобы подняться, но двинуться не получается.
— Ты не сможешь встать, не утруждайся, — бросает ему Чимин, продолжая рассматривать оружие. — Я тебе в вино такую дозу порошка всыпал, что слона парализует.
— Ты… — хрипит Ким. — Кто тебя послал?
— Меня? — смеётся Чимин. — Никто. Я сам пришёл, — он нагибается прямо к лицу мужчины. — Ты меня не знаешь, ты меня не видел, а я тебя знаю. И этого малыша, — Пак снова взмахивает кинжалом, а потом со всей силы втыкает его в плечо мужчины, чувствует, как кончик оружия упирается в паркет, и продолжает давить. Намджун издаёт истошный вопль, а Чимин любуется растекающейся под плечом парня лужей кровью.
— Именно этим кинжалом ты и перерезал горло моему отцу, — продолжает Пак. — Им же ты убил и мою мать, им же выколол глаза моей сестре, якобы пожалел ребенка, не убил, а она умерла по дороге в больницу от потери крови. А меня ты не увидел, потому что мать успела затолкнуть меня в шкаф, потому что то, что их сын приехал за день до твоего нападения, никто не знал. А я видел. Видел, как ты убивал их, я до сих пор слышу их предсмертные крики, истошный вой своей сестрёнки, ей ведь было всего десять, — Чимин выдёргивает кинжал и сразу втыкает его в другое плечо.
Намджун помнит. Он чётко помнит, как убивал семью Чхве. Это был один из его лучших заказов. Семья прокурора была казнена за отказ от сотрудничества с главой клана, который проходил в то время по нашумевшему убийству. И в этом клане Намджун работал ассасином, одним из лучших. Он знал, что у них есть сын, но ребёнок, которому тогда было меньше десяти лет, должен был быть в то время во Франции. Потом, после того, как шумиха вокруг жестокого убийства улеглась, клан выяснял, где мальчик, и его опекуны предоставили доказательства, что тот умер от пневмонии, и даже похоронен рядом со своей семьёй. Намджун эту могилу видел собственными глазами.
— Я долго готовился, — вздыхает Чимин. — Все эти годы в США я жил в семье друга отца, бывшего военного. Я хотел умереть после твоего ухода, там же лечь рядом со своей семьёй, но он забрал меня, так как первым приехал к отцу, раньше всех. Он сказал, что месть заставит меня жить, и был прав. Я столько лет учился, готовился, всё ради этого момента, и он прекрасен, он стоил того, — кинжал погружается в бедро уже хрипло постанывающего Намджуна. — Ты наёмник, самый жестокий из всех, твой холдинг прикрытие, ты и твой брат наконец-то на крючке спецслужб. О да, я знаю, что Хосок твой брат, и знаю, что он тоже ассасин. И спецслужбам тебя тоже я сдавал, сливал понемногу инфу.
— Как? — превозмогая боль, шепчет Ким.
— А вот так, — Чимин размазывает ладонями кровь по полу, подносит руку к лицу и морщится. — Я так мечтал о твоей крови на своих ладонях, в лучших своих снах её видел. Каждую ночь представлял, как буду тебя убивать, как искупаюсь в твоей крови. Я из-за того, чтобы проникнуть в твой холдинг, Гарвард закончил, знал, что в этой стране нужда в юристах, а я ненавижу право, но учил, ночи не спал, и я прошёл. Твой тупой работник Джин меня взял. Хотя мой приёмный отец хорошо постарался, надо отдать ему должное. Пак Чимина не существует, он выдуман, я живу жизнью человека, который умер, когда ему был годик. Поэтому твои на меня ничего нарыть не смогли — я родился, вырос в США, мои родители граждане США, я примерный гражданин и примерный сын.
— Ты сдохнешь, — хрипит Намджун. — Ты не выйдешь за эту дверь.
— Знаю, — пожимает плечами Пак. — Скорее всего, меня быстро найдут твои шавки, ну или правительство, потому что твоё убийство я с ними не обговаривал, а только твой арест. Но это не имеет значения. После того, как я убью тебя — мне уже плевать, что будет.
Чимин выдёргивает нож из бедра и седлает истекающее кровью тело.
— Я ненавижу тебя, — шипит ему в губы Пак. — А ты меня любишь, — гадко улыбается он.
— Сука, — воет Намджун.
— Ещё какая, — лучезарно улыбается парень. — Ты знаешь, что я спал с твоим братом?
Намджун, раскрыв рот, смотрит на парня не в силах выдавить и слова.
— О да, — мечтательно закатывает глаза Пак. — Мы трахались на твоём столе, в твоём бентли, на твоей кухне. Я трахался с ним, а потом ложился под тебя.
Намджун дёргается вправо и, сморщившись от боли, застывает.
— Я не рассчитывал тебя соблазнять, честно, — надувает губы Чимин. — Думал, сперва инфу всю выкачаю, получив доступ в холдинг, а потом убью, главное, доверие завоевать. Но ты скорректировал мои планы, сделал их намного лучше. Ты запал на меня ещё в лифте, а я воспользовался этим, я понял, что тебя, пресыщенного вниманием и развратом, зацепит мой ангельский образ, вечное заикание и пунцовые щёчки — и я был прав, но честное слово, та ночь вышла случайно. Я считал, рано тебе видеть меня настоящего, но ты приехал в офис в день рождения Ви, и я не мог тебе не дать. Это было весело, — вздыхает Пак. — А Хосок, он сразу меня настоящего прочувствовал, нюх у него острый, недаром его среди ассасинов «псом» зовут, да, я и это знаю. Если точнее «пёс с кровавой мордой», я, кстати, узнавал, на его счету убийств не меньше, чем на твоих. Колоритная у вас семейка. Но хватит разговоров, а то ты сейчас умрёшь от потери крови, а это неинтересно, — Чимин вытирает кинжал о рубашку парня и, нагнувшись к его губам, оставляет на них долгий поцелуй.
— Передавай привет моему отцу, он-то точно в аду горит за то, что свою семью не уберёг, — цедит сквозь зубы Чимин и рассекает горло мужчины. Намджун захлёбывается в своей крови, Пак видит, как она булькает в надрезе, как зачарованный, следит за утекающей и уносящей жизнь парня кровью, а потом, приставив лезвие к надрезу, что есть силы, давит, пытается кость прорезать, но сил не хватает. Чимин вытирает о грудь Намджуна руки и, прикрыв ладонью его глаза, встаёт на ноги.
Месяц спустя, Аризона, Феникс.
Чимин просыпается от лучей палящего солнца, бьющих прямо в лицо. Пак ругает себя, что снова забыл перед сном задёрнуть шторы, и идёт в душ. Вода помогает окончательно проснуться, а кофе поможет собраться с мыслями.
Чимин этот месяц не живёт, он ждёт, когда уже его найдут, арестуют и экстрадируют. Он сутками сидит в этой квартире, снятой на окраине, и смотрит в окно, пытается запомнить солнечные дни, звёзды на небе, воркование птиц. Скоро всё, что будет видеть Пак — это железная решётка.
Чимин вылетел из Кореи по поддельным документам, присланным отцом, первым же рейсом. Домой в Новый Орлеан Чимин не поехал. Мало ли кто будет мстить за смерть Намджуна — не хотелось подвергать опасности пожилых родителей. Паку долго не прожить — или в тюрьме убьют, с такой-то внешностью точно, или ассасины прикончат.
Он свою участь ещё будучи подростком принял и всё равно шёл к этому. Человеку, увидевшему смерть собственной семьи, к нормальной жизни не вернуться. Тут никакие психиатры и таблетки не помогут. Но месть помогла. Сколько бы ни говорили, что, отомстив, потерянного не вернуть — это было сладко. Во-первых, одержимость местью помогла Чимину дожить до двадцати трёх лет, а не наложить на себя руки, проснувшись от очередного кошмарного сна и постоянных криков матери и сестры в ушах. Во-вторых, прошло три недели с той ночи на квартире Намджуна — и все эти дни Чимин сладко спит. Мёртвые его больше не беспокоят. Чимин собой доволен. Он не знает, сколько ещё ему осталось, но вывернутая наизнанку душа наконец-то получила свой покой, и пусть иногда он отшвыривает в панике чашку или любой другой предмет — Пак точно знает, что капающая с его рук густыми каплями кровь всего лишь иллюзия.
Чимина от помешивания кофе отвлекает звонок в дверь. Пак, не привыкший к визитам, вздрагивает и нехотя идёт к двери. Он смотрит в глазок, но там никого не оказывается. Чимин возвращается на кухню и, допив кофе, решает выйти за сигаретами, так как в пачке на столе остаётся всего одна. Стоит ему открыть дверь в подъезд, как он видит большую корзину с нарциссами на пороге. Сердце Чимина пропускает удар, он отшатывается к стене и, схватившись рукой за грудь, пытается отдышаться. Чимин столько дней ждёт полицию, но государство и здесь проебалось — Хосок нашёл его раньше. Чимин прикрывает дверь и идёт в спальню. Он даже не закрывает её на ключ — бесполезно. Если Хосок его нашёл, то Чимину не спастись — от братьев Ким никто пока не спасся. Пак достаёт пистолет, припрятанный под матрасом, и идёт на кухню. Он кладёт оружие на стол, зажигает последнюю сигарету и ждёт.
Сейчас бы заплакать, но не плачется. Не от страха, что ещё немного, и он жизнь потеряет, а потому что скучал. Потому что эта странная, неправильная, пропитанная похотью связь вдохнула в Чимина жизнь, держала его на плаву и чуть не помешала всем планам, потому что в руках Хосока у Чимина сердце билось, и пусть он убеждал себя, что делал всё это, чтобы Намджуну больно было — неправда. Чимин делал это для себя, ради той пустоты внутри, годами живущей в нём, он заполнял её Хосоком, его голосом, его взглядами, его теплом, хотя скорее огнём — потому что Хосок не грел, он сжигал, а эти три недели Чимин мёрзнет. Он получил всё, чего хотел, достиг своей цели, но по пути потерял только-только обретённое сердце. Странно, оно ему даже начало нравиться.
Стрелка на часах на стене всё ползёт и ползёт и, несмотря на шум автомобилей за окном, на гул только просыпающегося города, всё, что Чимин слышит — это тиканье часов. Они отсчитывают время до прихода его палача, его отдушины, его яда, его больной любви.
Долго ждать не приходится. Входная дверь с противным скрипом открывается, и Пак отсчитывает семь шагов. Хосок стоит в проходе на кухню, одаривает его ядовитой улыбкой и проходит к столу. Кладёт рядом с пистолетом Чимина своё оружие, снимает свою кожанку. Следит за пальчиками парня на столе, за тем, как его рука ползёт к оружию, и, резко схватив его за ворот растянутой футболки, рывком поднимает на ноги. Всматривается в лицо Чимина несколько секунд и, притянув к себе, глубоко целует. Пак кладёт ладони поверх его рук и отвечает, жадно сминает чужие губы, позволяет ему трахать языком свой рот. Они будто изголодались, будто это не поцелуй вовсе, а нечто большее, нечто, что сейчас равноценно самой жизни. А может смерти.
— Я люблю тебя, суку, с ума по тебе схожу, — шепчет Хосок в поцелуй и кусает его губы, слизывает капли крови и снова целует. Чимин вскрикивает от боли, но не отстранятся, сам целует, сильнее прижимается. Пытается урвать побольше, надышаться им, насытиться, унести с собой этот вкус.
— Ты убил моего брата. Я ведь подозревал, что ты не чист, что скрываешь что-то, даже запрос нашим послал, вот только ответы пришли через два дня после смерти Намджуна. Ты сука, гениальная тварь, — Хосок больно бьёт парня затылком о стену и кусает его подбородок. — Учти, любовь моя, у нас такое не прощается, — он отстраняется, и стоит Чимину потянуться к пистолету, перехватывает его руку и одним движением её ломает.
Чимин воет от боли, прижимает к груди сломанную руку и оседает на пол. Хосок ногой отталкивает упавший на пол пистолет Пака и, вновь схватив того за горло, приподнимает на ноги, вжимает в стену, снова целует, слизывает текущие от боли слёзы и шепчет:
— Люблю тебя, не буду делать тебе больно. Обещаю, малыш, ты умрёшь быстро.
Чимин всхлипывает и кивает, верит ему, смотрит прямо в глаза и жмурится, почувствовав холодный металл на животе под футболкой, чувствует, как Хосок ведёт дулом пистолета по обнажённой коже, почти не дышит. Будто все эти дни Чимин выпотрошен был, а теперь Хосок здесь, рядом, кожа к коже, в своих руках держит, и Чимина тепло наполняет, даже боль в сломанной руке, горячим свинцом разливающаяся, на второй план отходит, пусть только Хосок в глаза смотрит, пусть его голос в памяти отпечатывается. Чимин впервые фразу «унесу с собой в могилу» буквально понимает.
— Поцелуй меня ещё раз, — просит Пак и раскрывает губы, принимая язык парня и одновременно выпущенные подряд три пули. Хосок не отпускает всё равно, чувствует, как чужая кровь его рубашку пропитывает, как обмякает тело в руках, но всё равно губы в губы стоит, последнее дыханье забирает.
Хосок аккуратно опускает безвольное тело на пол, смотрит на кровавую полосу, оставленную на стене, и вновь целует уже безжизненные губы. Присаживается рядом, прощается со своей одержимостью, запоминает идеальные для него черты. Знает, что стоит за дверь выйти, как тьма вернётся, как снова в нём поселится, и Хосок свою боль в чужой крови топить будет, просто раньше у боли не было лица и имени, а сейчас её Пак Чимин зовут и прекрасна она, как нарциссы в середине весны.
Тело Чимина находит прибывшая по вызову соседей полиция. По словам пожилой пары, живущей через стену, они слышали выстрелы в соседней квартире. Посередине кухни в луже собственной крови и накрытый одеялом из нарциссов лежит Пак Чимин, разыскиваемый по делу об убийстве известного корейского бизнесмена Ким Намджуна.
Источник: ficbook.net
Поиск
От автомойщика в Ташкенте до дизайнера в Дубае
Решил я начать серию коротких рассказов о людях в рамках своего проекта «Счастливое продолжение», проект пока на стадии идеи и я решил проверить интерес к данным историям на Пикабу прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги в этом направлении.
Сегодня я расскажу историю дизайнера из солнечного Ташкента. С Шухратом мы познакомились на спарке, где я впервые опубликовал рассказ о себе. Шухрат в комментариях отметил что наши истории чем-то похожи. Действительно, как и он, я начал работать довольно рано из-за финансовых трудностей в семье, а потом была череда из разных профессий, которые пришлось попробовать. Но хватит обо мне, далее рассказ пойдет от первого лица.

Путь от автомойщика до дизайнера был долгим и трудным. В момент начала моей трудовой деятельности и я не предполагал что все получится именно так. Единственное что хоть как-то меня связывало с миром дизайна — это умение не плохо рисовать от руки. Сейчас конечно понимаю что рисовал я не очень-то и хорошо, так может рисовать каждый. Родители как-то даже хотели отдать меня в школу искусств, но я категорически был против, упирался ногами и руками. Я не понимал зачем мне это нужно, а сидеть на Бродвее и рисовать портреты по 5$ считал унизительным.
Близкие и знакомые не верили в меня, поскольку знали о финансовых проблемах в семье. Было конечно обидно, но будучи человеком верующим, я верил что когда-нибудь я вырвусь из этой нищеты, но для этого придется проделать долгий и трудный путь. Судьба же словно смеялась надо мной, подкидывая каждый раз проблемы, но я не терял веры в свою мечту и всегда про себя повторял «Я Вам ещё покажу!»
Началось все с того, что в 8-м классе я, осознав то, что семья терпит финансовые трудности, принял решение пойти работать. Очевидным решением было мыть машины, поскольку рядом была налоговая и большая часть сотрудников ездила на своих авто. Сначала они соглашались не охотно, но со временем даже стали давать нам ключи, чтобы мы мыли и салон. В данном «бизнесе» нас было немного и за каждым, в конечном счете, закрепились конкретные машины, по этой причине конфликтов особо не возникало.
Тема мойки автомобилей продлилась не долго, поскольку через год налоговая переехала и мы одномоментно лишились заработка. Но мы не унывали, наш лидер ,по имени Вова, придумал другой способ заработка, он предлагал торгашам с рынка, который располагался недалеко, помогать донести им их баулы. Ниша была свободной и всем хватало работы. Перед школой мы помогали донести товар до рынка, а вечером с рынка до места хранения. Вскоре мы уже начали помогать торгашам раскладывать товар, а некоторые и вовсе помогать в качестве продавцов.
Поскольку один из моих, скажем так, клиентов был продавцом аудиокассет, то вскоре мне предложили приторговывать кассетами. Сначала мне это нравилось, но сидеть на одном месте мне быстро надоело. Не прошло и нескольких дней, как мне предложил работу продавцом продуктов, но вскоре мне надоело и это. Меня очень расстраивало то, что мне все быстро надоедало, временами я задумывался о том, что скорее всего это моя судьба, мыкаться по разным предприятиям работая там по 2-3 месяца.
Когда в Ташкенте открыли завод по производству кока-колы, то этим напитком торговали все вокруг, кому не лень. Мы, конечно же, были одни из первых, кто придумал торговать этим напитком на рынке. В изнуряющую жару это было весьма актуально, продавцы с радостью покупали прохладный напиток. Дела шли относительно хорошо, но хотелось большего и вскоре мне предложили торговать в магазине, но уже не на рынке, а в центре города.
Тем временем подходила к концу учеба в колледже и я решил поступать в архитектурный, но видимо всевышний решил иначе и поступить мне не удалось. Провалив поступление я решил идти снова работать, чтобы подкопить и поступить за деньги. Совсем случайно дядька по отцовской линии предложил поработать с ним. Я с радостью согласился. Работать надо было в строительстве, вот только объект располагался далеко за городом. Мотаться по изнуряющей жаре было просто невыносимо и часто мы жили прямо на объекте. В итоге за три месяца я получил столько же, сколько потратил на дорогу и еду. Ругаться с родственником я не стал, просто зарекся больше не иметь подобных дел с родней.
Имея небольшой опыт в строительстве я сразу же устроился в другую организацию, но там я выполнял «черную» работу из разряда «дай-подай». Так прошел целый год. Мне было очень обидно что мне не давали сложной работы. на мои просьбы поручить мне что-то более серьезное, прораб отвечал что я ещё молод и не опытен, а объекты очень серьезные и косячить там нельзя. Но спустя год прораб сдался и и мне доверили выполнение задач посерьезнее замеса раствора и подвоза стройматериалов.
К работе я старался подходить крайне ответственно и вскоре прораб заметил эту особенность и в итоге из начальника превратился в наставника, давая полезные советы и направляя на правильный путь. По прошествии некоторого количества времени он открыл свой магазин и ему стало не хватать времени, и он доверил мне часть своих обязанностей, а вскоре и вовсе решил отойти от дел плотно занявшись своим магазином. Так я по сути стал прорабом, с той лишь разницей, что в случае с клиентурой, мы продолжали зависеть от старого прораба.
Спустя какое-то время я купил себе первый свой автомобиль. Можно было бы считать что дела идут весьма успешно, если бы не сезонность, без работы приходилось сидеть по пол года. В итоге неплохие деньги, которые мы зарабатывали размазываясь по всему году, уже не были такими большими. Насмотревшись на коллег-прорабов, которые промышляли махинациями с закупками, я решил тоже попробовать отмутить некоторую сумму, у меня получилось срубить довольно серьезную сумму. Но в скором времени эту же сумму мне пришлось отдать из-за аварии, которая произошла по моей вине. Я расценил это как знак свыше и с тех пор зарекся влезать в мутные схемы.
За это время я женился и уже когда мы ждали ребенка, произошла совсем непонятная ситуация. Резко перестали поступать крупные заказы, поступала откровенная мелочь. Казалось бы ещё вчера мы с нуля возводили многоэтажные офисы, а сегодня мне предлагают заменить стекло, положить плитку в ванне и т.д. Постепенно бригада разбежалась, а я, чтобы свести концы с концами, начал «бомбить». Сначала суммы, которые я зарабатывал, меня радовали, но в скором времени я понял что большая часть этих денег уходит на содержание автомобиля, а чистый заработок кое-как покрывал возрастающие расходы.
Однажды, когда я подымался домой, меня к себе позвал сосед. Тот уже долгое время наблюдал как я работаю на износ и решил показать мне чем он занимается и как зарабатывает. Сосед на тот момент был преуспевающим и востребованным специалистом в сфере разработки дизайна интерфейсов. Или он во мне что-то разглядел, или он мне решил просто помочь, но я несколько часов сидел и смотрел что он делает и понял только одно: я никогда не пойму что он делает. На тот момент я не то, что не понимал как работает компьютер, я к нему никогда не прикасался, а только видел в офисах и по телевизору.
Поскольку денег кое-как хватало на жизнь, я решил занять у отца и купить б/ушный компьютер, новый тогда стоил как «сбитый боинг». Уговаривать отца пришлось очень долго, поскольку он не понимал как эта коробка с телевизором и кнопками может помочь заработать деньги. Но мне все-таки удалось его убедить и вскоре у меня появился мой первый компьютер. Я поставил на него фотошоп и начал пытаться повторить то, что мне показывал сосед, но само собой у меня ничего не получалось. Хвала всевышнему, который наделил меня упрямством, ибо только благодаря ему и моему соседу я смог в итоге сделать что-то приемлемое.
Освоение компьютера происходило в ущерб свободному времени и «бомбежке». На этой почве у меня начали возникать конфликты с близкими, в том числе и с женой, им всем казалось что я занимаюсь ерундой. Все настаивали на том, что бы я бросил эти «игрушки» и занялся серьезной работой. Временами мне было обидно что меня никто не понимает, аргументы в виде соседа, который не плохо себя обеспечивал, никто и не желал принимать в расчет.
Продолжая осваивать компьютер и фотошоп, а так же доставать своего соседа, в итоге я добился определенных успехов и вскоре сосед подкинул мне мою первую работу. Заказ был выполнен, конечно же, не без помощи соседа, но гонорар за эту работу он отдал мне целиком. Эти деньги я заработал не выходя из дома. Близкие накоец-то получили неоспоримое доказательство того, что с помощью компьютера можно зарабатывать неплохие деньги. Зарегистрировавшись на популярной бирже фриланса, я начал набираться опыта.
Осознав что мой автомобиль уже долгое время не используется, я решил его продать и в тот же день отогнал его на рынок. На вырученные деньги я купил себе навороченный комп и pro-аккаунты на необходимых сервисах. Так прошел год, я набрался опыта, но мне не хватало движухи, общения и я начал искать работу в офисе. Я нашел одну местную компанию и отправил туда резюме, но проработать мне там долго не удалось, не сошлись характерами. Через некоторое время мне поступило предложение из самой популярной IT-компании в Узбекистане. Я был чертовски рад и был уверен в том, что иду в правильном направлении.
Все это время сосед продолжал мне помогать, я часто просил его совета. Он очень любил критиковать мои работы, но я не обижался, а наоборот понимал что это полезно и принимал во внимание все его замечания. За все за это я чертовски ему благодарен и никогда этого не забуду.
Не даром говорят что мечты сбываются. Работая на стройке, в какой-то момент мне осточертело ходить вечно грязным и вонять краской, я мечтал о работе в офисе, где не надо мараться и часто повторял слова «Вот бы сидеть дома и получать деньги». Но все вокруг надо мной смеялись, а я не обращал внимания и просто мечтал. Прошло время и я устроился в IT-компанию. Но и там я не мог спокойно работать, я начал грезить Дубаем. За время моей работы в этой компании, я изрядно всех достал разговорами про Дубай. Но я прекрасно понимал где я и где Дубай, по этому и относился к этому как к несбыточной мечте.
В какой-то момент мне коллега скинул ссылку на пост в фейсбуке, пост был предложением работы в стартапе в Дубае. Поскольку список требований, среди которых было «проживание в г. Ташкент», я воспринял это как стеб. Я подумал что достал коллег и они решили надо мной подшутить. Об этом я и сказал коллеге, тот принялся меня переубеждать, но я ему не поверил. Единственный аргумент, который посеял зерно сомнения, заключался в авторе поста, его лента была богата на фотографии из Дубая.
Этим вечером я долго не мог уснуть, мне не давал покоя этот пост. С одной стороны я был уверен в том, что это стеб, но с другой стороны я искренне хотел что бы это было правдой. На следующий день я раз 50 перечитал тот пост и решился написать на указанный емейл. Через пару дней мне поступил звонок и мне сообщили что моя кандидатура их устраивает. На вопрос почему именно с Ташкента, оказалось вся команда стартапа родом из Ташкента, вот и собирают команду из земляков.
В глубине души я не исключал того, что меня все-таки разводят, но окончательные сомнения испарились как только мне сделали визу и электронный билет до Дубая. Я ликовал! Уладив все дела в Ташкенте, я сел в самолет и отправился на встречу мечте.

Вот он, город сказка, город мечта! Попадая в его сети, пропадаешь навсегда, но мне пропасть там навсегда не удалось. Стартап прожил два года и закрылся. Целый год я жил в этом мегагороде, в котором я получил прозвище Оскар. Поскольку мое имя созвучно со «спасибо» по арабски, то арабам было очень трудно называть меня по имени, и кто-то предложил называться Оскаром, я не стал отказываться. Так ко мне намертво приклеился этот псевдоним.
Весь год я жил в гостинице за счет компании. Это была странная гостиница, там давали интернет всего на пол часа, как деревне свет. Вечерами маясь от безделья я спускался на первый этаж и шарился по бутикам. В одном из них работал египтянин сносно говоривший по-русски. Познакомившись с ним я часто стал зависать у него, он учил меня арабскому языку, а его русскому.
Вернувшись на Родину, я устроился в компанию, которая занимается разработкой игр для мобильных платформ. В эмиратах я получил довольно серьезный опыт, который как раз и пригодился на новой работе. В планах все-таки начать свой собственный проект, правда пока не знаю какой, но в любом случае у меня уже есть команда из моих друзей и знакомых.
Напоследок хочу сказать одно: поверь в мечту и действуй!
Староверы Дерсу. Семья Мурачевых
Текст и фото: Александр Хитров
В октябре нам снова довелось побывать у староверов В Дерсу. На этот раз поездка несла благотворительный характер. Семье Мурачевых, у которых гостили в прошлый раз, мы передали сто кур-несушек и 5 мешков корма для них.
Спонсорами этой поездки выступили: группа компаний «Sladva», основатель сети «Шинтоп» и Президент фонда гражданских инициатив «Русь» Дмитрий Царев,«Птицефабрика Уссурийская», а также родители младшей группы детского сада «Морячок». От себя лично, от моего коллеги Вадима Шкодина, написавшего проникновенные тексты о быте старообрядцев, а также от семьи Ивана и Александры Мурачевых выражаем всем огромную благодарность за помощь и неравнодушие!

Семь пакетов с детскими вещами, собранными родителями детского садика «Морячок», были погружены в кузов нашего небольшого грузовичка. Далее наш путь лежал на «Птицефабрику Уссурийскую», где нас ждали 100 кур-несушек и 5 мешков с кормом для них. Погрузив живой груз в кузов, мы двинулись дальше, уже до самого Дерсу, точнее до переправы, где в назначенное время нас должны были ждать Иван Мурачев с сыновьями и подмогой.
Небольшой грузовичок уносил нас все дальше и дальше от родного дома. Тесная кабина еле вмещала в себя водителя и двух пассажиров. Мои многострадальные коленки упирались в решетки дуйки, в бок впивалась ручка переключения скоростей, но все эти тяготы поездки отходили на второй план, т.к. голова была забита одной мыслью: «Хоть бы все куры дожили до конца поездки». А ехать нам пришлось добрых 14 часов.
На протяжении всего пути я не мог оторвать взгляд от сменяющихся пейзажей. Золотая осень разукрасила флору Приморья во все возможные цвета: отдающие золотом кукурузные, пшеничные поля уходили далеко за горизонт, деревья, сбрасывая свою радужную листву, укрывали проезжающие мимо автомобили мягкими тенями, воздух был прозрачным и свежим. Чем дальше мы пробивались к северу, там более мрачными становились окружающие виды. Но малая надежда на то, что деревня Дерсу будет окружена цветным буйством красок природы, все же оставалась. К середине пути природа как будто перевернулась вверх тормашками: деревья практически лысые, зато дорога устлана цветным ковром из опавших листьев, шуршащих под колесами нашего грузовичка, везущего ценный, изредка кудахтающий, груз.
День медленно сменился вечером, а мы все еще ехали и ехали. Казалось, что наша дорога не имеет своего конца, что мы так и будем вечно везти этот живой груз до староверов. Уже далеко затемно мы приехали в поселок Рощино, где нас заждался Федор Владимирович — геолог, общественник и краевед. Многие его знают как бывшего директора нацпарка «Удэгейская легенда». В эту поездку он решил отправиться с нами по просьбе главного научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Юлии Викторовны Аргудяевой, которая пишет книгу о быте и истории заселения староверов в Приморье, но по состоянию здоровья она так и не смогла сама выехать на место. Федор Владимирович, вооруженный блокнотом с вопросами от Юлии Викторовны ждал нас у магазина «с двумя львами». Среднего роста, крепкого телосложения, одет в песочного цвета куртку, на голове черная кепка с налобным фонариком, через плечо перекинут старый брезентовый походный рюкзак, где, как позже оказалось, лежала только тетрадка с вопросами к староверам, которую передала Федору Владимировичу Юлия Викторовна.
— Здравствуйте! Что же вы так долго ехали? — открыв дверь грузовика сходу выпалил Федор Викторович — А я куда здесь сяду?
— Так у нас и места нет. Мы думали вы на своей машине поедете.
— Ну что ж вы не сказали сразу? — захлопнув дверь Федор Викторович поспешил куда-то к частным домам — Ладно, езжайте, я вас догоню.

С Рощино мы выехали на грунтовую дорогу, по обе стороны которой стояли безжизненные скелеты некогда зеленых деревьев. Эта дорога связывает Рощино с Пластуном. Десятки лесовозных фур разбивают и так плохую дорогу изо дня в день. Из-за этого скорость нашего грузовичка не превышала 30 км/ч. Нас шкивало из стороны в сторону. «Бедные куры! Каково им там?», — не выходило из головы. Темная дорога уходила далеко вперед, свет от фар терялся где-то в темноте. Изредка, нам навстречу выезжали те самые грузовики, до отказа набитые спиленным лесом. Кажется, еще чуть-чуть и пилить будет нечего, останется одна безжизненная пустыня с множеством пеньков. Ближе к середине пути до переправы нас догнал и Федор Владимирович. Рычащий «Субару Форестер» обогнал нас и уже дальше показывал дорогу (впереди было много развилок, был шанс свернуть не туда). До переправы, где нас уже ждали Иван Мурачев со своими сыновьями, мы добрались только к 22.00 вечера. Завидев приближающиеся они автомобилей, далекие огоньки от фонариков, светившие на той стороне реки, засуетились, замелькали, забегали. Будто светлячки, подхваченные потоком воздуха, расправили крылья и планировали. Два светлячка по подвесному мостику приближались к нам. Это Савелий и Никон спешили в нашу сторону, чтобы помочь разгрузить кузов нашего грузовичка. Горячо поприветствовав друг друга, обменявшись несколькими словами, мы в спешке стали разгружать автомобиль. Водитель грузовичка нервничал и все время причитал: «Если бы я знал, что так далеко надо будет ехать, не поехал бы!», «Зачем я согласился?!», «Завтра в городе нужно уже быть, а поздно!». Это действовало на нервы. Пожилой мужчина, ждавший паром на своем микроавтобусе, очень громко ругался, то на нас, то на Савелия с Никоном.
— Вот куда вы этих кур везете? Небось староверам? – разорялся он – А чем они это заслужили? Почему вот мне или бабушке какой с Дальнего Кута ничего не привезли? Почему все им? Все им!
Таких людей полно по всей России. Обычно возмущаются те, кто ничего не хочет делать, а только ждет от кого-либо помощи: от государства, от местной власти, от незнакомых людей, от всех, только не от самого себя.
Погрузив все вещи на паром, попрощавшись с Вадимом, (ему пришлось ехать обратно во Владивосток) мы стали переправляться на противоположный берег. Мужчина, заехавший на баржу на своем микроавтобусе, высунувшись из окна все причитал о несправедливости жизни, о том, как всем в селе плохо живется, что работать негде, а помогают только староверам.
— Эти староверы – они же цыгане настоящие! – все не унимался он – Вы посмотрите сколько земли они себе отхапали и еще хотят. Все им мало! Вон трактора понакупали себе, даже комбайн есть! А почему бы им не приехать на своей техники и у нас в селе не вспахать огороды? Нет, только себе. Все себе! Цыгане.
Я, паромщик и его помощник вступили с разгневанным мужчиной в долгую полемику, Савелий и Никон смиренно молчали. Переправа заняла чуть больше 10-ти минут. Этого времени хватило недовольному человеку, глаза которого источали только черную зависть и злобу, чтобы высказать все, что он думает о старообрядцах, о действующей власти и всей той несправедливости, что преследует его, как мне показалось, всю его жизнь.
К староверам в этих местах неоднозначное отношение: кто-то их хвалит за трудолюбие, за подъем деревни и земель, где живут, за их любовь к Родине, предкам, истории и культуре; но есть и те, кстати, их большинство, кто ругает работяг, называя их, как вы уже читали, цыганами, захватившими эти земли. Я думаю, что этими людьми, кто недоволен, движет простая русская озлобленность и зависть, простая зависть к их трудолюбию. Вместо того, что бы взять себя в руки, они берут в руки стакан и спиваются, спиваются из-за своего желчности и озлобленности, виня всех в своих бедах, только не самих себя, святых и праведных.
— Мы привыкли к такому отношению — позже скажет мне Иван Мурачев – Те, кто хочет жить хорошо, кормить свою семью, возделывать землю, да скот держать, тот будет работать. Будет просыпаться в 6 и даже 5 утра, если понадобится, а не валяться пьяным до обеда, а потом, просыпаясь, снова браться за стакан. Это все бес, это он их подкосил и направил на путь этот. Они просто лентяи, лодыри. Все бы у них было, если сами этого сильно захотели. Правда одного желания тут будет мало, нужно брать и делать.
На противоположном берегу, куда прибыл наш, так называемый, «паром» нас уже ждали. Иван Мурачев на своем на своем стареньком Датсуне, да мужчина, тоже из староверов, на нанятом грузовике. После долгих и горячих приветствий все, даже тот самый ворчащий мужик с микроавтобуса, помогли выгрузить коробки с курами, мешки с кормом и пакеты с детскими вещами с парома. В процессе Иван быстро и громко, жестикулируя руками, рассказывал последние новости с деревни: кто куда собирается переехать, кто наоборот, приехал, кто жениться собирается, кого в гости ждать будут. Очень тепло благодарил и за привезенных кур, за корм и, особенно, за детские вещи, купить которые они бы никак не смогли бы.
— У нас девять детей. Вот зайдешь в магазин, а цены там! – разводит руками Иван – Очень тяжело приходится, но мы стараемся справляться!
Пока мы грузили подарки в грузовик паром успел перевезти и Федора Владимировича с его резвым транспортом. С ним я уже и доехал до Дерсу. По дороге он долго рассказывал о староверах, об Иване, о его проблемах с переездом, о том, как ему и его семье пришлось жить чуть ли не в сарае, пока нашлись люди, которые помогли ему со строительством дома. Я же рассказал ему и о своих планах тоже. Для проекта мне нужны были портреты этих людей, которые отказались фотографироваться в прошлый раз. Ну, как вы поняли, из заглавной фотографии – Федор Владимирович все же смог мне помочь с этим вопросом. За что ему огромное и человеческое спасибо!

В этот раз дорога заняла чуть меньше получаса – мостики были отремонтированы, нам не приходилось каждый раз останавливаться перед ними, да поправлять доски. Как позже рассказывал Иван, новый глава Дальнекутского поселения выбил технику, и теперь будут делать дорогу. Точнее, пройдутся по ней грейдером, что уже хорошо.
— В скором времени все должно наладится – говорил Иван – Дай Бог! Дай Бог! Да и как же иначе?!
А на самом деле, как же иначе?! У хороших людей все должно быть хорошо. Все оно как в русских сказках – добро всегда побеждает зло. Да и побеждено оно уже давно, ибо главное зло для староверов – лень. Но, что не говори, лениться им попросту некогда. Слишком большое хозяйство держат, да семью такую большую одной ленью не прокормишь. Нет, лень – это не про них.

В деревню мы въехали уже ближе к полуночи. Кругом темнота, тишина. Даже собаки не лают. Лишь редкие огни окон указывают на то, что в деревне есть жизнь, что здесь живут люди. Мурачевы в это время уже разгружали машины. Кур выгрузили в бывший сарай, теперь уже курятник. Некогда подсобное помещение, где Мурачевы хранили весь свои сельхозинвентарь, быстро переоборудовали в просторный курятник со светом и помостом. Осталось только утеплить его к зиме. Чтобы курица неслась в холодное время года, температура в помещении должна быть не ниже +15. Детские вещи и мешки с кормом отнесли в дом, куда пригласили и нас. После длительной беседы и ужина мы легли спать. За весь следующий день нужно было сделать очень много работы.
За время нашего пути Владивосток – Дерсу, курицы снесли 9 яиц.

Утро в доме староверов начинается еще ночью (по-нашему ночью). Первыми всегда встают взрослые, отец будет детей, мать хлопочет по кухне. Плотный завтрак необходим для поддержания силы в течении всего дня. Трудиться всем приходится очень много. Для каждого найдется работа, даже для тех, кто по нашим меркам должен еще ходить в садик или начальные классы. Постепенно дом начинает оживать: кто-то одевается, кто-то гремит посудой на кухне, Оля, младший ребенок в семье, хныкает у себя в комнате, видимо ей не нравится вставать так рано. Кошки мечутся из стороны в сторону в надежде найти укромный уголок, что бы дальше, свернувшись калачиком, лечь досматривать свои полосато-усатые сны.

В соответствии с установленными канонами женщина должна иметь столько детей, «сколько Бог даст», и предохраняться от беременности считается грехом.
После непродолжительной фотосессии дети стали собираться в церковь. Чужаку, точнее не староверу, туда вход закрыт. Я остался в доме, где Иван принялся отвечать на вопросы Федора Владимировича, Александра взялась за рисование узоров для новой косоворотки, а маленькая Ольга с головой погрузилась в изучение новой игрушки.
— Каждая девочка должна уметь шить, вышивать — рассказывает Александра, продолжая аккуратно выводить цветы-колокольчике на лоскутке ткани — С 10ти лет учим. Выйдет замуж, а она должна уметь уже все делать: вышивать сарафаны, косоворотки, корову доить, есть готовить, да вообще все уметь должна. А ежели не умеет, то на кой такая жена нужна?
— Тренируются сначала на куклах — продолжает Александра, обмакивая кисточку в баночку с зеленой краской — Это будут листики. Зеленые. Так вот. Пока мальчишки, а потом уже парни, женихи помогают по хозяйству, девочки должны залатать износившуюся одёжу, пол подмести, кушать приготовить, с детьми позаниматься, да вообще очень много работы. Всем хватает. Очень редко можем себе позволить просто посидеть без дела. Вот вы приехали сейчас, так Иван хоть дома отдохнуть может, — улыбаясь косится на мужа (тот в это время рассказывал об истории семейных странствий Федору Владимировичу).- А не приехали бы, так и возился где-нибудь с чем-нибудь. Да, работы хватает всем.
— Умение вышивать, украшать одежду вы передаете своим детям, так сказать, из поколения в поколение?
— Кто может это делать, тот и передает. А есть и те, кто не умеет шить, рисовать не умеет,— сетует Александра, отложив кисточку — Нас никто не учил рисовать, как-то сами все. Вот я могу рисовать. Могу деток своих научить. А те, кто не умеет, те нам носят. Бывает приносят, скажем, штаны, суют, мол, соседка, выручи, зашей дырку. А как же так? Не умеют! Как так? Вот вместе с этим неумением все наши традиции и теряются. Жалко. Очень жалко.
Тем временем Иван рассказывал Федору Владимировичу о жизни в Боливии:
— В Боливии нам позволяли покупать земли! Здесь же нельзя. Все очень сложно в России с этим. Хочешь заняться сельским хозяйством, хочешь землю возделывать, а не дают, — возмущается Иван. — Там же, хочешь работать — пожалуйста. Покупай и работай себе на здоровье. В те времена, как мы там жили гектар земли с лесом можно было купить за 30 долларов, без леса за 300. Сейчас цены подняли сильно — с лесом 600 долларов, а без леса до 2000 доходит. От места зависит.
— Много земли у людей было в собственности? — Федор Владимирович все записывал в свою тетрадку.
— Были семьи, что по 1000 гектар земли имели,— с гордостью отвечает Иван — Они могли и техники много себе купить. Кстати, многие зарабатывали тем, что эту технику в аренду сдавали.

Дверь дома распахнулась и в комнату влетел запыхавшийся Никон: «Саша, пошли! Мы корову сейчас будем доить. Сфотографируешь! Ты же хотел.»
Пришлось в спешке собираться и пропустить интересное интервью с Иваном. О чем беседовал дальше Федор Владимирович со старообрядцем так и останется для меня загадкой, а значит и для моих читателей. После надоя первого ведра к нам подошли Александра с Саломанией.
— Так, быстро в курятник! Нужно помост доделать. Здесь мы сами управимся, — в приказном порядке «отлучили» нас от коровы.
Сделав один кадр в курятнике я отправился гулять по деревне. Савелий, младший сын Мурачевых, вызвался добровольцем чтобы провести мне небольшую экскурсию по окрестностям, а также попробовать помочь с налаживанием контакта с местными. Фотосъемки одной семьи мне было мало. Портретов нужно было куда больше.
В Дерсу я пробыл еще один день. За это время мне удалось договориться о съемке с еще одной семьей, остальные были категорически против.

Вторая семья, согласившаяся на фотосъемку. Это Яков Мурачев. Он со своей семьей в скором будущем переезжает в Самаргу. Он поменялся домами с одним из тамошних староверов.
Всего в их семье двое детей. Семья молодая. Второй ребенок — девочка. Она в это время спала.

Справка: Часть старообрядцев Боливии и Уругвая (практически все – потомки приморских старообрядцев) прибыла в Приморье по краевой целевой программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Рассчитанная на 6 лет, она реализуется в Приморском крае с 2007 года. Основная цель программы – стабилизация демографической ситуации в крае, которая характеризуется снижением общей численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока.
Первоначально программой были определены шесть территорий вселения: четыре городских округа (Артемовский, Дальнегорский, Находкинский, Уссурийский), Пограничный муниципальный район и поселок Восток Красноармейского района, но в дальнейшем была разработана новая редакция программы переселения сроком действия до конца 2012 года, в которой предусматривалось увеличение (с шести до 16) территорий вселения, скорректированы численность участников и объем финансирования, предусмотрена возможность компактного поселения религиозных общин для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Дары технического прогресса давно вошли в обиход у староверов. Современная техника широко используется в хозяйственном и семейном быту. Практически в каждом доме есть холодильники, стиральные машины и другие электроприборы.
Под строгим запретом только «бесовская техника» — телевизоры и компьютеры, которые, по мнению староверов, развращают человека. Старообрядцы не читают светскую литературу, не пользуются интернетом. Сотовый телефон есть практически в каждой семье, но используется только далеко за пределами села (мобильной связи в Дерсу нет), да и то — в случае крайней необходимости.

В пищу употребляют в основном продуты натурального хозяйства. Но что-то – соль, сахар, растительное масло – приходится покупать в магазинах, самый ближний из которых находится в Дальнем Куте.
Устои духовной жизни староверы охраняют от внешнего влияния очень строго. Старообрядцы Дерсу принадлежат к одному из наиболее консервативных течений в старообрядчестве — так называемым «часовенным» (переходным между «поповцами» и «беспоповцами»). У «часовенных» функции духовных лидеров исполняют выбранные из числа мирян грамотные наставники.
Огромное место в жизни староверов занимает молитва — с ней просыпаются и засыпают, ей начинается и заканчивается прием пищи, начало и окончание работ.
У староверов много своих традиционных праздников, уходящих корнями в глубокое прошлое. Каждый праздник отмечается в строгом соответствии с устоявшимися канонами. Несмотря на то, что староверы не поют светских песен, стремясь сохранять благочестие, праздники они справляют очень торжественно, с песнями и танцами, которые не противоречат их религиозным установкам.
Курение табака — под строгим запретом, а вот употребление алкоголя запрещено только с понедельника по субботу. В воскресение, которое является обязательным днем, освобожденным от работы, старообрядцы могут немного выпить, но и здесь оригинальны — пьют только брагу собственного приготовления.

Утро следующего дня встретило меня морозным, золотым рассветом. Недолго думая, даже не позавтракав, на удивление Ивана, я выбежал на улицу и фотографировал. Фотографировал дымку, пасущихся коров, покрытые инеем дома и растения. Это было чудесное утро. В обед я уехал в Рощино. Переночевав в гостинице мой путь лежал дальше — на этот раз я решил далеко не ехать и посетил село Крутой Яр (материал на стадии подготовки). Меня очень радушно приняли в школе, в детском саду (даже покормили там), в местном клубе и слесарной мастерской, где ребятишки со школы на станках вытачивают из дерева различную кухонную утварь. А вот местные жители оказались не такими гостеприимными, практически все отказались давать мне интервью. Лишь одна женщина кратко и сухо ответила на несколько вопросов. Жаль. Очень жаль.

Кроилово ведёт к попадалову.
Впомнилось. Работал как-то я прорабом на стройке в Новосибирске. Год примерно 2004-2005. Строили небольшой райончик из 5 домов пятиэтажных. Дома были в разной степени готовности. В одном доме еще велись доделки, но со сроками сдачи мы немного пролетели, поэтому в квартиры пускали собственников для того, чтобы они начинали отделку.
Я каждый вечер обходил здание на предмет осмотра закрытых дверей квартир, стояков, пожарной безопасности и т.д. Соответственно, знал, кто в какой квартире работает. Кто-то своими силами вёл отделку, кто-то нанимал бригады. Был один собственник, имел в подъезде две рядом стоящие 3-х или 4-х комнатные квартиры. Владелец бизнеса (называть не буду, в Новосибирске известная контора).
Так вот, решил этот дядька сэкономить — нанял двух русских парней из Казахстана. Они жили в одной квартире, во второй вели отделку. Сначала он платил им понедельно. Бухали. Очень много и долго. Одного парня хозяин отправил домой пить кумыс, а второму не платил денег, но исправно привозил продукты и сигареты.
Начал я в мусорных контейнерах замечать просто огромное количество пустых бутыльков от боярышника. Вроде отделочники не пили. в то время они зарабатывали очень неплохо. Люди стремились сделать «евроремонты», платили нормально.
Продолжалось это примерно с неделю — каждое утро обнаруживал в контейнерах всё новые и новые бутыльки.
В один прекрасный вечер делаю обход, и в квартире, где работал русский парень из Казахстана, обнаруживаю открытую дверь. Захожу. На полу в прихожей лежит этот тип на спине, обе руки на сгибах возле ладоней перерезаны, дыра в животе. Лужа крови диаметром метра 1,5. Как ореол.
Вызываю ментов, скорую, звоню руководству (оно технично слилось — все сразу занятые и в командировках оказались), и, наконец, звоню хозяину.
Пол-ночи, естественно, провёл у ментов. Писал объяснительные — с кем он конфликтовал, с кем дружил, кто мог ему причинить вред.
Он выжил, доктора откачали. Как выяснилось, торговал этот тип стройматериалами хозяйскими потихоньку, денег особо не было, поэтому бухал боярышник. А боярка в малых дозах полезна, но если пить литрами, то крыша едет. Что и случилось. Почудились ему черти-дьяволы, порезал себя как смог. Чудика этого зашили, на ноги поставили. Потом в дурку на пару месяцев определили. И затем благополучно домой отправили.
А хозяин прекратил отделку. Дом сдали, я ушёл в другое место, так и не знаю, доделан ремонт или нет.
«Старшего брата» больше нет. Россия перестала прощать
Как известно, внешняя политика, проводимая руководством России, в целом пользуется весьма высоким уровнем общественной поддержки в стране. Однако есть тема, неизменно вызывающая у многих граждан раздражение
Речь идет о проявлении — реальном или кажущемся — такой исторически заметной черты российской внешней политики, как незлопамятность, пишет колумнист РИА Новости.
Показательно, насколько изменились общественные настроения в данном вопросе. Еще относительно недавно — не далее чем поколение назад — отечественное общество гордилось тем, что Россия не помнит зла, готова «понять и простить», прийти на помощь вчерашнему врагу, всегда открыта к сотрудничеству, и тем, как много стран и народов на планете обязаны ей своим выживанием, развитием и благополучием.
После подъема антироссийских настроений в мире в постсоветские времена эти перемены выразились в горько-ироничном анекдоте про «русских варваров, которые врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и больницы».
Частично из-за постсоветской русофобии множества бывших «братских народов», частично по ряду других причин настроения заметно сдвинулись. Теперь идеи безвозмездной помощи и прочих щедрых жестов в пользу других стран не находят широкой поддержки в российском обществе. Наоборот, подобные новости — от списания Россией чужих госдолгов до дорогостоящих гуманитарных проектов за границей — вызывают чаще глухой ропот в адрес властей, хотя ныне эта деятельность и близко не имеет советского размаха, да и стоят за ней обычно вполне прагматичные причины, а не «широта русской души».
Тем не менее российское общество довольно болезненно относится ко всем случаям отступления от принципа взаимовыгодного партнерства, который ныне заявляет Москва в качестве главного принципа своей внешней политики. Причем наибольшая чувствительность в данном вопросе проявляется даже не в отношении условных «голодающих народов Африки», а тех самых «братских народов», с которыми Россия исторически связана очень тесными узами. В первую очередь речь о странах Восточной Европы.
В глазах российского общества слишком уж разителен контраст между тем, сколько для этих народов и их государств сделала Россия за столетия истории, в том числе влезая в ненужные ей войны для защиты славян и единоверцев, и откровенно недружественной нам политикой, которую те проводят при первом же удобном случае. В том числе последние тридцать лет.
При этом понятно общественное беспокойство по поводу того, что именно эти страны имеют шанс использовать сентиментальные чувства Москвы, уговорив на очередные поблажки для себя вопреки интересам России. Следует признать, что беспокойство это имеет под собой определенные основания, поскольку слишком уж часто подобное происходило в прошлом.
Так вот. На днях произошло событие, которое крайне наглядно продемонстрировало, что эти тревоги беспочвенны, а руководство России гораздо лучше самого российского общества помнит разнообразные внешнеполитические эксцессы — помнит и действует с их учетом.

Тридцатого мая состоялся визит премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Россию, причем вряд ли у него остались особо приятные воспоминания об этой поездке, поскольку по ее результатам стало очевидно, что сентиментальности и решений на ее основе от нынешнего Кремля не дождешься.
Речь шла о возобновлении масштабного двухстороннего сотрудничества между странами, и в первую очередь — о возобновлении проекта газопровода в Болгарию из России.
Безусловно, болгарам некого винить, кроме самих себя: несколько лет назад они для демонстрации евросолидарности собственными руками сорвали строительство «Южного потока», причем в момент, когда было почти все готово для его реализации. Итог известен — Болгария осталась у разбитого корыта, а российские газопроводы пошли в Турцию и Германию.
Ныне руководство балканской страны открыто кается в тогдашних решениях и пытается реанимировать идею газопровода. Любопытно, однако, что демонстративное посыпание головы пеплом явно не произвело особого впечатления на российскую сторону.
По итогам визита Борисова в Москву стало известно, что Россия не возражает против продления газопровода «Турецкий поток» в Болгарию. Однако позиция Кремля ныне обставлена таким количеством условий — высказанных лично российским президентом как прямо, так и в виде прозрачных намеков, — что при воплощении проекта Софии придется приложить серьезные усилия.
Для начала Владимир Путин неоднократно напомнил своему болгарскому коллеге и заодно остальной Европе, что для реализации данной затеи необходимо согласие и активное сотрудничество Турции. То есть договариваться Софии теперь придется не только с Москвой и Брюсселем, но еще и с Анкарой.
Затем российский президент упомянул 800 миллионов евро, потерянных «Газпромом» из-за срыва Болгарией «Южного потока». А вскользь сказанная Путиным фраза «Ну, записали их в убытки, что делать» прозрачно дала понять, что Москва ничего не забыла, действует с учетом прошлого опыта, а Болгарии стоит подумать над формой компенсации понесенного российским газовым гигантом ущерба. Глядишь, и проект быстрее сдвинется с мертвой точки.
Безусловно, самым ярким моментом переговоров стал обмен репликами двух лидеров, когда на традиционную — в духе «братских народов» — риторику болгарский премьер получил прямой ответ Владимира Путина. Бойко Борисов поблагодарил Россию за то, что она не держит зла, а потом добавил: «Ну, старший всегда умеет прощать». На это российский президент сказал, что его «всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить».

Кажется, еще никогда раньше российское руководство не высказывало настолько открыто, что рассматривает апелляцию к пресловутым «братским» отношениям как попытку манипуляции Россией, стремление жить за ее счет.
А за прозрачными намеками со стороны Москвы последовали прямо высказанные условия к болгарскому продлению «Турецкого потока». Главным стало требование гарантий для потенциального энергопроекта — либо от Софии, либо от Брюсселя.
Заодно российский президент довольно ядовито прокомментировал лицемерие европейских структур, которые заявляют о необходимости равных рыночных условий для всех поставщиков энергоресурсов и при этом предоставляют льготные условия недавно запущенному Азербайджаном «Южному газовому коридору», который, в частности, выведен из пресловутого Третьего энергопакета.
В результате итогом визита Бойко Борисова стали многочисленные материалы в СМИ под заголовками «Турецкий поток» пойдет в Болгарию» и комментарий пресс-секретаря российского президента с прямым заявлением, что договоренностей по поставкам газа нет и быть не могло — в силу отсутствия «определенных гарантий со стороны Еврокомиссии, самой Болгарии», а также «учитывая предыдущий опыт».
Это не значит, что «Турецкий поток» в итоге не будет продлен в Болгарию.
Это просто значит, что на этот раз болгарским властям, если они действительно этого хотят, придется очень сильно постараться. Постараться самим.
Монтаж кровли дома из профлиста, стропила и утепление
Зёрна

Андеш Йунассон возвращался домой.
После семнадцати лет, двух тысяч парсеков и порядка полутора столетия на Земле.
Одиннадцать лет анабиоза, шесть лет исследований, тысячи бессонных ночей.
Сотня планетарных систем, десяток планет земного типа, и, наконец, одна, пригодная для заселения. Он нашел человечеству второй дом, и теперь возвращался на Землю.
Корабль выпрыгнул в Солнечную систему, гул двигателей стих, вибрация почти исчезла. Андеш включил линк, нащупал сканнером в звездном небе Землю и нажал кнопку вызова.
На удивление, ответили сразу.
— Здесь Земля, Порт Кейптаун. Борт Х23, здравствуйте. ммм. господин Йунассон.
— Рад слышать человеческий голос, — вырвалось у него.
— Мы тоже рады и с нетерпением ждем вашего прибытия. Дайте сводку.
— Двигатели в норме, обшивка не повреждена, небольшая утечка охлаждающей жидкости — роботы чинят. В остальном — корабль в целости и сохранности, экипаж, в лице меня, тоже. Задание выполнено, готовьте шампанское.
— Это хорошая новость, мистер Йунассон. Будем встречать с почестями, делегация уже собирается, во главе ее будет сам Президент.
Он дома. Остальное не имеет значения.
Пыль, поднятая раскаленными дюзами корабля, не успела рассеяться, как на площадку выскочили три больших черных экипажа. Какие-то люди раскатали красную дорожку, другие уже расставляли небольшую трибуну и микрофоны с камерами.
Андеш закрыл забрало скафандра и вышел в шлюз.
На той стороне его встречало три человека в наспех наброшенных на деловые костюмы белых халатах. Один из них быстро подбежал к Андешу, похлопал по плечу и показал знаком, чтобы тот включил внешнюю связь.
— Это — наш Президент, — заговорил человек, едва Андеш нажал кнопку на рукаве. — Брайс Уиллер. Второй — Бейзил Белл, Советник Президента по вопросам Галактической Миграции и Великого Переселения. Собственно я — Барнеби Бленкеншип, Главный Конструктор и руководитель Космического Порта Кейптаун.
— Очень приятно, сэр, — кивнул Андеш. — Надеюсь, вы простите мой скафандр.
— Естественно, милейший, — Барнеби отскочил назад, к Президенту и Советнику, и затараторил уже оттуда. — Господин Президент и Советник будут ожидать вас внизу, у трибуны, где пройдет торжественная встреча первого вернувшегося исследователя дальнего космоса в вашем лице. Встреча будет запечатлена для истории на все доступные на данный момент носители, так же она будет транслироваться вживую по всем каналам связи планеты. Это — исторический момент, и господин Президент рад, что честь встретить первого вернувшегося исследователя выпала именно ему.
Президент слегка кивнул, Советник подался чуть вперед, подхватил его за локоть и зашептал:
— Мы должны вернуться к прессе. Вам нужно произнести речь, после чего господин Йунассон выйдет из корабля и тоже скажет несколько слов.
Уиллер снова кивнул, так и не произнеся ни звука, развернулся и вышел из помещения. Советник выскользнул за ним, люк мягко закрылся, и тогда Андеш решился:
— Я привез нам хорошие новости, сэр. Экспедиция не прошла даром, однако есть один момент, очень важный момент, о котором вы должны знать.
— Да-да, — перебил его Барнеби. — Вы подготовите отчет, его тщательно рассмотрит комиссия, но это будет позже. Сначала — торжественная встреча, и только потом формальности. Возможно, даже после непродолжительной акклиматизации и быстрой проверки вашего здоровья. Время не ждет, знаете ли. Вы очень кстати вернулись, Йунассон. Очень вовремя.
Глянул на часы, нажав на кнопку на стене, открыл люк и сделал приглашающий жест:
— Прошу вас, Андеш. Вся Земля ждет вашего прибытия. Это — ваш час славы, наслаждайтесь. И не поскользнитесь на ступеньках эскалатора, иначе придется переснимать сначала.
Андеш удивленно посмотрел на собеседника, тот заметил взгляд, и сказал:
— Шучу. Но вы все равно не поскользнитесь.
Андеш шагнул на эскалатор, внизу грянул оркестр, засуетились репортеры, сквозь непонятно откуда взявшуюся толпу встречающих промчались и выскочили к дорожке одинаково одетые в национальные костюмы девушки с цветами. Андеш глубоко вдохнул, и пусть воздух все еще был не земной, а искусственный, из системы рециркуляции, вдруг показалось, что он даже уловил давно забытые запахи раскаленного асфальта и свежих цветов.
— В этот торжественный день. — ревел из громкоговорителей хорошо поставленный голос Президента, пока Андеш спускался, пытаясь сосредоточиться на важности момента, и от того то и дело пропуская фразы, — . перед лицом человечества! Мы глубоко преклоняемся перед подвигом. и теперь вся планета встречает первого вернувшегося исследователя космоса. Запомните этот день, день, когда маленький шаг человека, вернувшегося на Землю, станет огромным прыжком всей нашей расы во Вселенную!
Андеш ступил на дорожку, девушки бросились вперед, засыпая букетами и целуя прямо в скафандр, оркестр, наконец, смолк, Президент медленно и величаво подошел и протянул руку. Андеш пожал ее, защелкали камеры с круживших вокруг дронов, снова грянула бравурная музыка, Президент по отечески обнял его за плечи и повел к трибуне. Там, дождавшись, пока техники подключат аппаратуру к скафандру, чуть слышно прокашлявшись и попытавшись смахнуть нелепую, выползшую вдруг с края глаза, слезу, положил цветы на трибуну, и сказал:
— Экипаж разведывательного крейсера Икс Двадцать Три задачу выполнил.
Толпа взорвалась аплодисментами, он дождался, пока они стихнут, и продолжил:
— Экспедиция заняла семнадцать лет, несомненно, долгих лет для меня, но неимоверно, бесконечно долгими оказались полтора столетия, прошедшие для населения нашей планеты. Были исследованы сотни миров, тысячи разных планет, смертельно опасных и просто безжизненных, раскаленных и обледенелых, газовых гигантов и каменных карликов, и обнаружен один, пригодный для переселения. И теперь, после того, как я передам данные о координатах ученным, можно считать, что Великое Переселение, о котором мечтала наша умирающая планета, началось!
Толпа снова взорвалась аплодисментами, Андеш хотел сказать что-то еще, но Советник Президента Белл сделал жест, и репортеры вдруг переключились на него.
— Все важные заявления будут сделаны своевременно, — сказал он. — Пресса будет поставлена в известность о дате Великого Переселения заблаговременно, а пока — нашему герою нужно отдохнуть и пройти акклиматизацию. На все ваши вопросы касательно господина Андеша Йунассона, его биографии и нюансов, связанных с экспедицией, ответит пресс-секретарь Президента. Могу сейчас сказать только одно: господину Йунассону будет предоставлена историческая возможность нажать кнопку и запустить Великое Переселение.
Журналисты было дернулись к Андешу, но того окружили люди в темных костюмах и повели к подкатившему сзади автобусу.
Акклиматизацию и правда завершили быстро. Врачи несколько раз в день кололи ему какие-то препараты, «витамины», как шутил то и дело навещавший его Барнеби, проводили тесты на физические способности и эмоциональное состояние, в остальное, свободное время, с Андешом занимались сотрудники Центра Реабилитации, вводя его в курс политической и технической ситуации на планете. Иногда приходили журналисты, и ему приходилось отвечать на вопросы, в основном, одни и те же, о том, скучал ли он по дому, каково было провести столько долгих лет в одиночестве и — каких монстров он повидал на чужих планетах. Однажды привели детей, в тот день много фотографировали и мало спрашивали, но потом один мальчик задал вопрос, который запомнился Андешу.
— Что самое страшное было в вашей жизни? — спросил он.
Андеш задумался, перебирая ответы, почти порываясь ответить по-детски на детский же вопрос, мол, космонавты ничего не боятся, но потом неожиданно для себя признался:
— Мрак. Темнота, малыш, вот что самое страшное. Когда ты уже лег в криокамеру, но аппаратура еще не включилась, ты закрываешь глаза и начинаешь понимать, что такое пустота. Что такое Тьма с большой буквы. Тухнут один за другим приборы, гаснет свет в корабле, останавливаются все ненужные службы, а ты — закрываешь глаза. И тьма, которую ты видишь в тот момент — бесконечна, потому что она сливается с темнотой корабля. А та — с нескончаемой тьмой Вселенной, с той самой тьмой, в которой ты — песчинка. Маленькая, крохотная точечка жизни, живой атом в безбрежной, беспредельной тьме космоса. В тот момент понимаешь, что ты — ничто по сравнению со всем, что тебя окружает, и это — страшно. Что темнота в твоих глазах призрачна, а тьма за ними — бездонна.
— Не пугайте детей, — с улыбкой прервал его Барнеби. — Вы говорите вещи, о которых им не стоит знать.
— Что вы, — попытался оправдаться Андеш, — я не собирался никого пугать. Само вырвалось, простите.
Мальчика увели, а Андеш еще долго перекатывал на языке сказанное.
Потом он смотрел новости, передачи о современной жизни, и все это казалось призрачным и нереальным: мир, в который он вернулся, больше не был его домом. Скакнувшие далеко вперед за более чем полтораста лет технологии, чужая, непонятная музыка, суетливость окружающих людей, вычурные, гротескные для его разума, здания, все это было частями мира, в который он вернулся, но не мира, который он покидал.
И еще он не мог не заметить — этот мир умирал. Необратимость изменений была катастрофична, и больше всего в глаза бросалось отсутствие младенцев. Рождаемость падает, думал он, если уже не сошла на нет, а это значит, что через какую-нибудь сотню лет человечество попросту вымрет.
Это его уже не касается, успокаивал он себя. Это — проблемы этого мира, а свою задачу Андеш выполнил. Вырвался из вселенского мрака и вернулся.
И потому его ужасно раздражал искусственный свет, точнее не само освещение, а строгий распорядок дня и ночи. Он думал о том, что, когда выберется отсюда, купит домик где-нибудь далеко от всего этого, на краю моря, на склоне горы, и проведет там остаток дней.
Солнце, море, и ветер.
То, чего ему так не хватало все эти годы.
В один из дней Барнаби явился довольно взволнованным.
— Мы изучили отчет, Андеш, — сказал он с порога.
— И дополнительную часть?
— Именно. Собственно, к ней и появились вопросы. Дополнение — то самое важное заявление, которое вы собирались сделать сразу после посадки?
— Да. Наличие зачатков разумной жизни на нескольких планетах, обитаемых и нет. Перспектива заселения планеты, заселенной полуразумными или разумными аборигенами довольно сомнительна. Геноцид разумной расы не самое лучшее, с чего человечеству стоило бы начинать экспансию.
— Это вынуждает нас ускорить программу Великого Переселения.
— Это, вполне возможно, станет причиной для полного отказа от нее, — возразил Андеш.
— Ни в коем случае, — быстро, в своей обычной манере, забормотал Барнеби. — Человечество на грани коллапса, ресурсы на планете, да и во всей системе, исчерпаны. У нас нет выбора.
— Понимаете, — попытался донести свою точку зрения Андеш, — переселение — довольно глобальная штука. Судя по новостям, подготовка к переселению велась с момента запуска первой экспедиции, то есть даже задолго до того, как в космос отправился я сам. Согласен, я не знаю всех нюансов этой вашей Великой Программы, отчего-то вся информация по ней недоступна.
— Секретность нужна для предотвращения возможных диверсий, — вставил Барнеби.
— Пусть так. Но — остается ведь проблема доставки огромного числа переселенцев к местам заселения. А для того, чтобы переселенцы смогли выжить на планете, необходимо предварительно создать на ней инфраструктуру. Заводы по переработке металлов, по производству пластиков, фермы — это сотни, если не тысячи лет, с учетом бесконечно огромных расстояний. Да, допустим, что я был первым, вернувшимся с хорошей новостью, космонавтом, и за мной начнут возвращаться другие. Да, планет, пригодных для заселения, может быть много. Допустим, мы найдем ресурсы, предположим, что мы даже построим и запустим корабли, однако — сколько из них достигнет точки назначения? Сколько совершит удачную посадку? Сколько людей не погибнет от местных болезней и стихийных бедствий? Сколько переселенцев смогут выжить в результате?
— Согласен, вы рисуете мрачную картину. Мрачную для вашего времени. Мы подошли к проблеме иначе, и корабли уже готовы. Человечество почти созрело. По всем каналам объявили, что право запустить первые корабли предоставлено вам. Вы теперь — символ Переселения, понимаете? И что же я сейчас наблюдаю? Несмотря на все старания докторов, ваше психологическое состояние скатывается в депрессивные настроения. Видимо, долгие годы в космосе не прошли даром, Андеш.
— Может быть, — устало кивнул он в ответ. — Может я просто еще мало знаю.
— Вы узнаете все, в свое время, — улыбнулся Барнаби. — Пуск назначен на послезавтра, в двенадцать ночи ровно. Вы уверены, что сможете нажать кнопку?
— Уверен, — сказал Андеш, хотя внутри него сейчас уверенности почти не осталось.
— Президент тоже выразил свои сомнения относительно вашей способности произвести пуск, — вкрадчиво говорил Советник Белл. — За последние пару суток ваше состояние ухудшилось, господин Йунассон.
— Я чересчур много думал, — сказал Андеш.
Голова раскалывалась, в помещении, несмотря на кондиционер, было ужасно душно.
— Поверьте, — продолжал Белл, — в этом нет ничего сложного. Нужно просто выйти к пульту и нажать на кнопку. Даже если у вас не будет сил для этого, ничего страшного не случится: у нас есть дублирующий пульт, с которого оператор в нужное время произведет пуск. Ваша личность — символ для человечества, очень значимый символ, давший надежду, олицетворивший для всей расы шаг вперед, в вас верят, и потому люди должны видеть именно вас в этот ответственный момент. Вы улетели в космос и вернулись, вот в чем ваша важность.
— Хорошо, — согласился наконец Андеш. — Но у меня есть два условия. Первое — я нажму на кнопку, и после этого вы отстанете от меня. Вы — все, включая ученых, правительство и журналистов. Просто выплатите все, что причитается, и я свободен. Ушел в туман, в небытие, в мрак. Выполнил миссию, и свободен.
— Думаю, — кивнул Белл, — это вполне по силам правительственному аппарату. Мы отвлечем репортеров на процесс переселения, и о вас забудут на какое-то время. Ну а дальше — проще, когда вспомнят, ажиотажа уже не будет, момент пройдет, и ваше имя станет просто историей.
— Отлично. Теперь — второе. Я хочу знать, что представляет из себя это ваше Великое Переселение в кавычках.
— А вам до сих пор не сообщили? — спросил Белл, вопросительно глянув на стоявшего поодаль Барнаби.
Тот отрицательно покачал головой и развел руками:
— Мы боялись за эмоциональное состояние господина Йунассона.
— Ладно, — Белл снова повернулся к Андешу. — До старта осталось всего несколько минут, отчего бы и нет. Сядьте, Андеш.
И, дождавшись, когда тот опустится в кресло, продолжил:
— Порядка ста пятидесяти лет назад, то есть практически сразу после отправки последнего экспедиционного крейсера, один из проектов, проводимых в рамках изучения возможностей покорения соседних звездных систем, привел к неожиданным результатам. Суть проекта заключалась в отправке автоматических станций к границам Солнечной системы с целью поиска в межзвездном пространстве скоплений полезной материи. То есть, автоматы были отправлены в сторону от известных маршрутов нарочно, а искать они должны были ресурсы, те самые, которые необходимы были для строительства огромного флота гигантских переселенческих кораблей. Однако, вместо ресурсов один из автоматов обнаружил неизвестную до сих пор аномалию, приблизился и был ею поглощен. Но, предвидя вопросы — не аннигилирован. Попав в аномалию, автомат неожиданно появился в другой области космоса. Сначала ученные предположили, что это — та самая точка для нуль-перехода, о которой писали фантасты, и что с помощью подобных точек мы, наконец, покорим дальние уголки галактики и, даже, вселенной. Но потом рядом с нашим автоматическим кораблем был обнаружен второй корабль, который был идентичен первому и двигался похожим курсом. Более того, он отзывался на те же сигналы.
— Копия? — удивился Андеш.
— Именно, — ответил вместо Белла Барнаби. — Аномалия не искривляла пространство, как нам это показалось, она просто клонировала все, что в нее попадает. Мы несколько лет исследовали ее, получили много информации, полезной и не очень, а потом произошло еще одно удивительное событие: другой автомат, в другой точке межзвездного пространства обнаружил вторую аномалию. И потом — третью. Четвертую. Пятую. И так далее. Они расположены на огромных расстояниях друг от друга, но в масштабах космоса эти расстояния малы. очень малы. Мы отправляли автоматы все дальше и дальше, и, чем больше удалялись эти корабли в пустоту, тем больше аномалий они находили.
— И тогда один из ученых, — влез в разговор Белл, — Клаус Линден, выдвинул теорию, что все эти аномалии принимали непосредственное участие в формировании Вселенной. Что они взаимосвязаны, и что траектории тел, которые в них попадают, направлены в сторону других, расположенных дальше, аномалий. То есть, теоретически, придав телу достаточную скорость и запустив его в одну из аномалий, мы получим на выходе из нее два тела, которые будут двигаться к двум другим аномалиям. И, попав в которые, они произведут еще два тела. И так далее, в прогрессии. Представляете?
— Ядерная реакция деления, — выдавил Андеш.
— Очень похоже, да, хотя по сути — нечто абсолютно иное и в миллиарды раз большее. Эти аномалии были названы именем ученого, выдвинувшего эту теорию, и называются теперь точками Линдена.
— И. — Андешу вдруг стало не хватать воздуха и он потянул воротник в сторону. — И как же вы их собираетесь использовать?
— Максимально просто и бесконечно гениально, — усмехнулся Белл. — Программа Переселения представляет собой два миллиона маленьких, одноместных кораблей.
— Два. — удивился Андеш. — Миллиона.
— Именно столько на данный момент на нашей планете родившихся, и сразу после рождения помещенных в криосон, младенцев. Корабли полностью автономны и используют все современные технологии жизнеобеспечения. Их ресурса хватит, чтобы долететь до края галактики, а, может быть, и дальше, теоретически. Мы запустим сегодня — вот этой кнопкой — их все, одновременно, и во все известные нам точки Линдена. Если учесть, что после прохождения точки Линдена тело получает ускорение, достаточное для достижения следующей точки, запас хода корабля практически бесконечен и ограничен только количеством самих точек Линдена, а они, насколько нам известно, везде. Во всей Вселенной.
— Но подождите! — воскликнул Андеш. — Ведь космос не инертен, не статичен, в нем все движется, планеты, туманности, галактики. Ведь корабли с. — он поперхнулся от самой мысли, — с младенцами могут уйти с траектории и столкнуться с астероидами, звездами, да упасть на планеты, в конце концов!
— На это мы и рассчитываем, — сказал внезапно вошедший в помещение Президент. — У меня речь сейчас, осталось две минуты, попрошу не лезть в камеры.
И пошел вперед, в центр комнаты.
— Ведь прохождение кораблями через бесконечное количество точек дает бесконечное количество кораблей, умноженное на два, — подытожил Белл.
— В степени бесконечность, — поправил его Барнаби.
— Какая разница, — рассмеялся Белл. — Бесконечность дает бесконечное число попыток, бесконечное число шансов, а это значит, что, пусть большая часть кораблей погибнет, сгорев в звездах, столкнувшись с кометами и астероидами, вторая бесконечная их часть не пострадает, и попадет на планеты. И пусть из миллиарда планет одна будет пригодной для жизни, одна миллиардная часть кораблей попадет на нее. Понимаете? Нет, вы осознаете грандиозность того, к чему скоро приложите руку? Они — словно семена, зерна человечества, которые мы разбросаем щедрой рукой по вселенной! Дети на всем протяжении пути будут периодически выводиться из криосна, расти, обучаться программами, заложенными в бортовой компьютер, навыкам, необходимым для выживания на необитаемых планетах, и к моменту, когда корабль приземлится на планете, маленькие человечки будут готовы ко всему.
— Или умрут, — вставил Андеш.
— Прекратите, — выпалил внезапно вспыливший Белл, подскочил к Андешу и влепил ему звонкую пощечину. — Возьмите себя в руки, на вас будут смотреть миллионы глаз родителей, от которых на протяжении последних пяти лет забирали ради великой цели новорожденных детей, которые пожертвовали самым ценным ради грандиозного будущего! Барнаби, скажи своим людям, пусть вколют ему чего-нибудь успокоительного!
Андеш попытался встать, но ноги не держали, и потому опустился обратно в кресло.
— Прекратить! — вдруг послышался громкий рык Президента. — Йунассон! Встать и подойти к пульту! Это приказ!
И окрик этот словно изменил, сломал что-то внутри Андеша.
Если все эти люди, если все современное человечество допускает возможность подобного, то.
Он встал, невидящим взглядом обвел присутствующих, шатающейся походкой подошел к пульту и оперся о металлическую поверхность.
— Равняйсь! — кричал Президент. — Всем выйти из кадра! Камеры на космонавта! Обратный отсчет!
Приятный женский голос откуда-то сверху произносил цифры; на огромном экране перед пультом появилось картинка, транслируемая с пусковой площадки: бесконечное поле одинаковых, чуть заостренных кверху, стальных корпусов кораблей, освещаемых ярчайшими прожекторами.
— . Два. Один. Пуск. — произнес голос, и Андеш, словно заведенная механическая кукла, практически не осознавая того, что делает, поднял руку и нажал большую красную кнопку.
Издалека донесся гул, миллионы кораблей на экране задрожали, полыхнули пламенем из дюз, медленно начали свое путешествие вверх, и в тот момент Андеш не выдержал.
Грохнул кулаком по пульту, с ненавистью оглядел присутствующих, потянул со всей дури душивший воротник, и рванул вон. Столкнул с лестницы испуганных рабочих, проскочил два коридора, выбил двери, и выбежал, наконец, наружу, во влажный после недавнего дождя, пахнущий травой и горящим топливом, воздух, пробежал по полю, запнулся и упал. Перевернулся, открыл глаза и долго смотрел вверх, в мириады уходящих ввысь металлических точек, представлял себе маленькие живые сердца, быстро бьющиеся внутри каждой из них, думал о том, как же прав был Белл, сравнивая их с зернами, а перед глазами у него стоял тот самый давешний мальчик, и сейчас Андеш знал, что ему ответить.
Все же, темнота космоса не самое страшное, что может произойти с тобой в жизни.
Великое Переселение началось.
Настенька
Появилась на свет девочка Настенька. Это было очень давно. Тогда страна наша называлась не Россия, а Советский Союз. Настенька была первым ребёнком в семье когда-то раскулаченных крестьян. Наталья и Фёдор были рады рождению девочки, а через несколько лет у них появился ещё и сынок Николаша. Отец Фёдор трудился, не покладая рук, всё старался побольше заработать. Наталья занималась детьми и хозяйством: пекла хлеб в русской печи, варила щи в огромном чугуне, скоблила косырём деревянные половицы, полоскала бельё в роднике. Жили не богато, но и не бедствовали. Как все. Дети умыты, обстираны, огород прополот, корова подоена, молоко процежено…
…И вдруг война! Как гром среди ясного неба. Она разрушила всё: судьбы, жизни, семьи, мечты.
Фёдору, как и всем трудоспособным мужикам, пришла повестка. Собрав нехитрые пожитки, вместе с остальными он отправился в военный комиссариат. Расцеловал на прощанье жену, любимицу Настеньку с Николашей, пообещал обязательно вернуться и уехал… Навсегда…
Война всех мужчин превращает в солдат, в защитников Родины и семьи. А в семье Фёдора ожидалось прибавление. Ой, как некстати! Двоих детей без мужа прокормить нелегко, а троих и того труднее. Переживания по этому поводу не скрывали. Молились, просили у Господа помощи. Потом смирились, приняли сложившуюся ситуацию такой, какая она есть. Срок родов настал именно в тот день, когда Фёдора с однополчанами везли поездом мимо ближайшей станции по направлению к линии фронта. Свидание с мужем было невозможно. Наталья лежала на кровати, прижимая к себе крохотный комочек. Слёзы текли по её щекам. Это не были слёзы радости, это были горькие слёзы молодой женщины, оплакивающей свою горькую долю. Настенька с Николашей стояли рядом, гладили маму по руке, шептали: «Не плачь, мам, не плачь…».
Одиннадцатилетняя Настенька повзрослела, наверное, именно в это мгновение. Ей показалось, что именно она должна теперь поддерживать ослабевшую мать, поставить на ноги младшего брата и сестру, взять на себя все заботы по хозяйству. Надеяться не на кого. Она же старшая. Девочка забрала из рук матери новорожденную Машеньку, положила её в колыбельку, укрыла тёплым платком. Николаше велела сидеть рядом и не шуметь.
Настенька была необычайно смышлёным ребёнком. Легко запоминала стихи, песни, хорошо считала, мечтала получить образование, чтобы стать врачом или может быть учителем. Быть учителем в те времена было почётно. Учитель – самый уважаемый человек на селе. Но, увы и ах. Война! Она всё испортила. Школу пришлось бросить. Домашнее хозяйство тяжёлым грузом легло на плечи подростка. Конечно, и Наталья не бросила вести дом, но Настенька, лидер по своим качествам, заменила в доме мужчину. Именно она решала, что и где надо построить, отремонтировать, купить, перешить. У неё, а не у матери отпрашивались младшие погулять или сходить в гости. Настенька пошла работать наравне со взрослыми женщинами на тяжёлую работу в лесничество. Именно она копала картошку в огороде, она колола дрова, она шила новые ситцевые занавески на окна. Всё она – девочка-подросток с сильной волей и добрым сердцем.
…Война закончилась. Фёдор пропал без вести. Даже могилки не осталось. Маленькой Машеньке так и не довелось увидеть отца, да и Николаша помнил его какими-то отдельными кадрами, словно из старого фотоальбома. Год от года всё труднее представить его глаза, губы. В памяти остался только силуэт, нечёткий, размытый, может быть даже придуманный.
Однажды Настенька на целых полгода уехала из дома накануне своего семнадцатилетия. Это была командировка. Артель, в которой она работала, отправили в Волгоградскую область на лесозаготовки. После войны страну поднимали из руин, древесины для строительства надо было много, рабочих рук не хватало. Там, в лесу, познакомилась Настенька с молодым человеком, в которого влюбилась, и через полгода она привезла его домой в качестве жениха. Парень был хорош собой, но вспыльчив, неуравновешен, на спокойную семейную жизнь он не был настроен. В селе новоиспечённый кавалер быстро нашёл себе друзей, беспрестанно праздновал приезд, обмывал новые знакомства…
Прошла всего неделя, а жениха уже вышвырнули за дверь. Сама Настенька его и выгнала. Переживала, конечно, но ум шёл впереди сердца.
Трудолюбивая, сручная к любому делу, хозяйственная, молодая, здоровая, но… Пользованная. Теперь кавалеры обходили её стороной. Времена и нравы были строгими. Девушка запятнала себя позором, привезла парня домой! Заработала дурную славу. Жениться на ней нельзя. Многим Настя нравилась, но так и оставалась незамужней.…
А жизнь тем временем продолжалась. …
PS: Спасибо всем, кто осилил прочитать до конца. Все события и герои реальные. Если кого-то заинтересовали дальнейшие события, будет продолжение. )
Всемирный потоп(одесская версия часть 2)
Изя тут же услужливо подсказывает:
-Уважаемый Ной, мы можем существенно сократить расходы на чернорабочих, которые должны будут поднимать, и переносить тяжелые предметы. В Индии это делают слоны. Поэтому, если вы уже сейчас купите слона, то мы сможем сократить смету по рабочим на треть. А когда ковчег будет достроен, докупим этому слону слониху! Это счастливый случай, что слон уже здесь! А слониху придется заказывать, и с учетом доставки она может стоить вдвое или втрое дороже! Вот тут я посчитал второй вариант, когда вместо грузчиков будет работать слон!
Изя протягивает второй вариант сметы. Ной в растерянности:
-Я должен подумать, и спросить у Бога, что делать! Он не говорил об участии слона в строительстве ковчега!
Ной долго сидел над сметами со слоном и без слона. Все было расписано до мельчайших подробностей. Стоимость слона была для Ноя полной неожиданностью. В словах Бога было все так просто:
-Возьмешь каждой живности по паре нечистых и по семи пар чистых.
Ной взял счеты. Быстро набрал сумму, на которую мог рассчитывать. Она была значительной, вот только после вычета стоимости строительства ковчега по смете без слона, она уменьшилась вдвое. Слон, слониха, семь коров, семь быков. В этом месте еврейское начало Ноя начало протестовать. На хрена спрашивается столько быков? Бык в два раза дороже и жрет в два раза больше. Нормальный хозяин возьмет двенадцать коров и двух быков. В принципе, хватит и одного, второй нужен только для того, чтобы первый был в тонусе. Ной тут же одергивает себя. Разве можно спорить с богом? Еще верблюды, овцы, козы. Всех по четырнадцать штук. Львы, тигры, леопарды, гепарды, волки… Эти хищники жрут мясо, причем солонину им можно не предлагать, только свежее. Это значит еще козы и корм для них. Деньги катастрофически быстро заканчивались. Может, Бог, планировал, что звери сами бесплатно придут к Ною? Да еще и принесут запас корма на год с собой!
-Ты посмел усомниться в моей воле? – голос Бога звучал в пустой комнате безо всякого сияния и пламени. Ной упал на колени:
-Господи! Я исполняю твою волю. Я нашел строителей, у которых есть дерево гофер, и которые взялись за постройку ковчега! Только я не думал, что это будет стоить так дорого! Я готов потратить все свои сбережения, но их не хватит на покупку всех животных и птиц Земли!
Голос Бога теплеет:
-Ты не должен думать о деньгах! Ты должен делать все, чтобы исполнить мою волю! Об остальном я позабочусь!
Ной швырнул счеты в угол. Бог сказал – нужно верить! Слон – пусть будет слон! Деньги? Да хрен с ними! Закончатся, Бог подгонит еще. А может, действительно твари сами придут! Для Бога нет ничего невозможного!
Изя с трудом докатил до цирка ящик, придуманный им и сделанный по чертежам Абрама. По ровной дороге он катился легко, хотя и весил больше двухсот кило. Кроме того, в него еще влезло сотня килограмм морковки. А вот возле цирка пришлось попотеть. Тот располагался на холме, да и дорога к нему была разбита тяжелыми повозками и засыпана песком. Изя затолкал ящик за веревочную ограду и присел отдохнуть. Уже через минуту его грубо тряхнули за плечо:
-Чего расселся? Убирайся отсюда! Представление только завтра! – верзила, который работал в цирке силачом, в свободное время подрабатывал охранником и вышибалой. Изя разводит руками:
-Я слышал, ваш хозяин продает слона? Или меня обманули?
-На хрена тебе слон?
-Будет работать у меня охранником. Он гораздо сильнее тебя, и при этом не будет грубить гостям. Доложишь хозяину, или мне уходить? – на тупом лице верзилы появляется признак мысли. Он понимает, что его оскорбили, однако не может понять как. Наконец, он принимает решение:
-Идем за мной! А свою тележку оставь здесь!
-Не могу. Ее могут украсть, кроме того, мне говорили, что слон продается самовывозом!
Верзила начинает ржать:
-Ты действительно такой идиот, или прикидываешься? Да слон в десять раз больше твоей тележки!
-Поэтому обратно он будет ее толкать!
Хохот верзилы становится истерическим. Он даже всхлипывает:
-Наш слон будет ее толкать! Я готов два золотых отдать, чтобы посмотреть на такую картину!
-Еще посмотришь! Только по поводу двух золотых я запомнил! – Изя спокойно толкает свой ящик на колесах к шатру цирка. Верзила, немного успокоившись, идет за ним.
Торговли как таковой не было. Изя сразу согласился на заранее предложенную сумму, но поставил условие. Он дает половину денег вперед, как задаток. Если ему не удастся договориться со слоном, он просто уходит, оставляя задаток. Если слон пойдет с Изей, то деньги принесут хозяину цирка, как только слон придет с Изей на место. Хозяин цирка немного возмущался, но скорее для вида. Судя по всему, он настолько верил, что у Изе ничего не выйдет, что уже считал половину цены слона своей. Уже через пару минут они ударили по рукам.
Слон ходил по территории цирка не привязанным. Хотя ходил, это было сильно сказано. После бегства дрессировщика о слоне хотели забыть, но он напомнил. Он забирал еду у всех животных, кроме хищников, а потом еще совершал набеги на близлежащие сады. Хозяин цирка заплатил достаточно много денег за ущерб, нанесенный слоном, прежде чем понял, что слона дешевле кормить. Ему сваливали кучу веток и сена в одном месте, поставили там же бочку с водой и слон далеко от этого места не уходил. Пришлось нанять человека, чтобы тот следил, чтобы куча веток и сена не сильно уменьшалась, в бочке всегда была вода, а кучи слоновьего навоза не сильно увеличивались. Пока слона не трогали, и у него был корм с водой, он не проявлял агрессии к людям. Появление Изи с тележкой он воспринял абсолютно равнодушно. Хозяин цирка и верзила-охранник пришли поржать с того, как слон пошлет Изю куда подальше. Мешочек с задатком приятно оттягивал карман хозяина цирка. Он кивает на слона:
-Вот твое чудовище! Можешь забирать!
-Только близко не подходи! – снова начинает ржать охранник, — Воды в бочке много, а он любит всех купать!
Изя ставит тележку так, чтобы легкий ветерок донес до слона запах морковки. Слон приподнял хобот, принюхиваясь, и уже через мгновение стоял возле ящика. Хобот быстро обследовал густую решетку, и слон понял, что морковки ему не достать.
В этот момент Изя ныряет рукой в ящик и достает морковку. Держа ее перед собой, он вежливо обращается к слону:
-Уважаемый слон. Имею предложить вам гешефт. Вы толкаете эту тележку сто локтей вперед, и получаете за это одну морковку!
Слон не стал дожидаться продолжения. Его хобот выхватывает морковку у Изи и отправляет себе в пасть. Потом он бесцеремонно отпихивает Изю в сторону и пытается просунуть хобот именно в то отверстие ящика, где только что была Изина рука. А тут его ждет облом. В этом отверстии тайный замок, который запирает его толстыми, немного заостренными штырями. Пару минут слон пытается вскрыть ящик, трясет его, даже пытается перевернуть, но это не приближает его к морковке. Наконец, поняв, что ящик ему не открыть, слон отступает. Изя начинает толкать ящик к выходу из огороженной территории цирка. Протолкав сто локтей, Изя снова достает морковку, успевает ее надкусить и засунуть обратно, пока ее не отобрал слон. Тот снова потолкав хоботом в закрытое отверстие, внезапно принимает решение. Он упирается лбом в тележку и толкает ее к выходу. Изя хмыкает и обращается к верзиле:
-Уважаемый! Вы обещали мне два золотых за то, что я научу слона толкать тележку! Пора платить! – он увидел, что слон протащил тележку на сто локтей и остановился. Изя быстро подбегает к ящику, достает из него морковку и дает слону. За это время хозяин цирка и верзила о чем-то договорились. Верзила тут же подбегает к Изе и орет:
-Пошел вон! Мой хозяин передумал продавать слона!
-Я дал задаток! – возражает Изя, — Твой хозяин должен вернуть его в двойном размере, раз отказался продавать!
-Щас! – перебивает его хозяин, — Никаких денег ты не давал, понял? Вали отсюда, пока тебе не переломали ноги!
-Уже ухожу! — огорченно говорит Изя. И медленно проходит мимо слона, который уже протащил тележку еще сто локтей, и снова пытается пролезть в отверстие ящика, ожидая морковку, — Я обещал слону морковку за сто локтей. Он их протащил. Не хочу обманывать животное. Можно дать ему обещанное?
-Давай! Только потом оставь ящик тут и убирайся! – орет хозяин цирка. Изя достает морковку и вручает ее слону. Никто не увидел, что Изя потянул за замаскированный рычажок. При этом штыри, которые закрывали отверстие в ящик, освобождались от жесткого упора, зато специальные пружины поддерживали штыри в нужном положении.
После этого Изя выходит за границы территории цирка и садится на пригорке. А слон тем временем упорно толкает тележку по направлению к Изе. Остановившись через сто локтей, слон требовательно трубит, требуя награду. Ни Изя, ни тем более хозяин цирка или верзила не собираются открывать ящик. И тогда слон делает очередную попытку сунуть хобот в отверстие. И на этот раз у него это выходит! Слон, собрав хоботом побольше морковки, пытается его вытащить. И тут его ждет неприятность. Подпружиненные штыри, пропустив хобот вовнутрь, при попытке вытащить его назад, впиваются в кожу. Слон взвизгивает и проталкивает хобот еще глубже, пока позволяет его толщина. Верзила первый понял, что происходит что-то не то. Он пытается помочь, вместо этого слон сносит его ударом ящика. Каждое движение приносит боль слону, поэтому он ставит ящик на место и пытается осторожно вытащить из него хобот.
Хозяин цирка бросает взгляд на неподвижное тело верзилы и негромко окликает Изю:
-Эй, ты! Сними свой ящик с моего слона!
-Это ваш ящик и ваш слон. И ваша проблема, как его освободить от ящика. Когда слон поймет, что вытащить хобот не выйдет, он начнет нервничать. Я бы на вашем месте убрал подальше людей, животных и особенно клетки с хищниками. Я, пожалуй, пойду, пока слон не запаниковал!
-Стой! Сколько ты хочешь?
-Это деловой подход! Если вы хотите оставить слона себе…
-Нет! – орет хозяин цирка, — Ты его купил, поэтому должен немедленно забрать!
-В этом случае вы мне должны два золотых. Эта тупая туша, — Изя показывает на верзилу, — Обещала мне два золотых, если слон дотолкает тележку до границы цирка. Вы платите – я забираю слона. Вы отказались продавать слона и хотели зажать мои деньги, поэтому я вам больше ничего не должен.
-Грабеж был пять минут назад с вашей стороны. Если я не оставляю слона, мне обещали сломать мне ноги! А я вам предлагаю гешефт. Хотите – платите, а хотите — нет. Мои деньги у вас, ящик и слон – тоже. Два золотых и я забираю слона с ящиком, оставляя вам деньги. Предложение действительно, пока слон не начал нервничать. После этого я к нему и близко не подойду!
Хозяин цирка бросает взгляд на слона. Тот все еще пытается осторожно вытащить хобот, однако громкие визги говорят о том, что терпение у слона уже заканчивается.
-Согласен! – вопит хозяин цирка. Он вытаскивает две золотых монеты из мешочка с задатком, — Отдам, как только освободишь и заберешь отсюда этого слона!
Изя быстро подходит к ящику, и выключает тайный рычажок. Слон с облегчением вытаскивает хобот, и тут же тянет его к Изе за вознаграждением. Получив морковку, он снова упирается лбом в тележку с ящиком и толкает его к выходу.
-Какое умное животное! – восхищается Изя, — Вы не передумали платить?
Вдогонку Изе летят две золотые монеты и нецензурная брань.
Изе пришлось надолго закрыть магазин. Вся площадка перед ним была занята длинными ошкуренными стволами кедра. Помощь слона была как нельзя кстати. Чтобы перемещать такое количество бревен, понадобилось бы не меньше трех десятков здоровяков. Однако, морковка уходила с огромной скоростью. Слон требовал ее за каждое перемещение бревна. Пока Изя наладил распил бревен, Абраму пришлось кормить слона и вывозить за ним навоз. Уже через час он натер мозоли от непривычной работы и начал жаловаться:
-Бгат, я думал, слон будет воспитывать Ноя. А вместо этого, я должен вывозить за ним навоз!
-Абрам, мы продаем Ною огромное количество кедра, под видом гофера. Если ты думаешь, что Ной дурак, то ты – дурак вдвойне. Даже если мы покроем смолой каждую доску сразу, он захочет посмотреть, какое оно, дерево гофер. Ему скажут, что это кедр, и наш гешефт закончится. Кроме того, у нас будет репутация мошенников, и у нас никто ничего покупать не будет.
-И как ты хочешь сделать из кедга дегево гофег?
-Я купил испорченное оливковое масло. Точнее, мне заплатили за то, что я продал им чистые амфоры, вместо тех, в которых находится та вонючая жижа. Сейчас я накалю ее и обработаю доски и брус. Я проверял, получается красивый красно-коричневый цвет с золотистыми прожилками. Такого дерева в природе нет. Чем не гофер? Правда, воняет от него мерзко, будем надеяться, что это надолго.
-То есть вонь останется? – глаза у Абрама округляются от ответа. Изя шепчет:
-Я очень на это рассчитываю! Почему – тебе пока знать не нужно. Проследи, чтобы все доски обработали, после этого тачку за слоном будут таскать сыновья Ноя. Им пора привыкать к тяжелой физической работе!
-Бгат, а что делаешь ты, пока я вывожу навоз? Ты читаешь какие-то стагые манускгипты…
-Ной хочет разместить на ковчеге всех животных и птиц Земли. Мне пришлось составить перечень всех тварей и смету по их доставке вместе с кормом к ковчегу. Даже если все иудеи отдадут все свои деньги Ною, у него не хватит и на половину необходимого!
-Я же говогил что этот сумасшедший старик тгебует невозможного!
-Абрам, думай, как иудей! Я нанял десяток художников, смотри, что у них выходит! – Изя протягивает Абраму полированную дощечку из кедра, пропитанного испорченным маслом с мерзким запахом, на которой нарисован бегемот, — Должно получится около ста пятидесяти тысяч с разными животными или птицами. Как раз по количеству людей в Иудее. Если староста нашего города со своей женой наденут эти таблички…
Абрам наконец-то все понял:
-Вместо зверья и птиц будут люди! А вонь от табличек исключит возможность подделки!
Изя качает головой:
-Не все! Только иудеи, которые уверуют и вернутся к Богу. И, конечно же, заплатят мне за эти таблички! Один золотой за чистую тварь, один серебряный – за нечистую. Абрам, ты начинаешь умнеть, и это радует!
-Ты собигаешься тогговать ими на базаге? Тебя засмеют!
-Жаль, я думал, у тебя действительно добавилось мозгов, а это была просто догадка. Я подарю табличку с бегемотом старосте нашего города. А за остальные, по числу людей в нашем городе, возьму с него столько сколько сказал. За сколько их будет продавать староста – это его гешефт. Возможно, когда воды будет по колено, табличка будет стоить сто золотых! Уверен, что через месяц к нам приедут гонцы от старост всех городов Иудеи!
Через три дня во двор дома Ноя въехала первая телега с красно-коричневыми вонючими досками. Ее толкал слон, а за ним с тележкой шел Изя, закидывая в рот слону морковку. Ной начал вопить:
-Какого хрена ты привез сюда эту мерзость?
-Уважаемый Ной заказывал строительство ковчега из дерева гофер. Я привез это дерево. Оно не пропитывается водой, однако плохо пахнет. Поэтому его покупают только там, где строят корабли.
Ной уже с интересом осматривает поверхность доски:
-Какие красивые! Но эта вонь! Можно их убрать подальше от дома?
-С моим уважением, у меня уже есть план размещения возле вашего дома стройматериалов, бараков для рабочих и места для строительства ковчега. Сделать все как-то по-другому не выйдет. Он подает Ною рисунок. Тот в ужасе вопит:
-Ты сложишь эти вонючие доски у меня прямо под домом?
-Да, уважаемый Ной. Это не самое большое горе! У меня тут смета на приобретение животных, — он протягивает ее Ною. Тот бросает взгляд на конечную цифру и у него все плывет перед глазами:
-У меня нет таких денег!
-Если покупать животных – денег может не хватить, — Изя почти шепчет, — Уважаемый Ной может спросить у Бога, если бегемот сам придет к ковчегу с запасом еды на год, возьмет ли его Ной? Бегемот подтвердит свою сущность такой табличкой, — Изя протягивает Ною табличку с картинкой бегемота, — Кроме того, бегемот обещает вести праведный образ жизни, молиться, блюсти шаббат, платить десятину и возносить Богу жертвы. Разрешит ли Бог взять на ковчег такого бегемота?
Ной разворачивается, и почти не видя дороги от слез, бредет к дому. Зайдя в свою комнату, он падает на колени:
-Господи, я не знаю, что делать! Стоимость всех животных в сотню раз больше, чем все, на что я могу рассчитывать!
-Я говорил тебе, что животные придут к тебе сами! И у них с собой будет запас еды на год! Почему ты мне не веришь? – голос Господа звучит очень тихо. Ной даже несколько раз ударил головой об пол, чтобы понять, что он не ослышался. Он все понял и вздохнул с облегчением. Набрав увесистый мешочек золотых, он возвращается к Изе и сует ему в руки деньги:
-Бог сказал, что праведные животные и птицы с запасом корма на год, будут приняты на ковчег. Они должны чтить Бога, молиться ему, блюсти шаббат, платить десятину и возносить Богу жертвы. На эти деньги ты купишь запас корма для нашего слона и наймешь людей, чтобы кормили его и вывозили за ним навоз! Кроме этого, тут должно хватить денег на аренду участка земли для строительства ковчега подальше от моего дома.
Изя возвратился домой очень поздно, с довольной ухмылкой:
-Абрам, у нас все вышло! Староста нашего города купил все таблички по числу жителей города. Мы договорились, что нечистая тварь может провести с собой в ковчег три головы мелкого скота или одну голову крупного, чистая тварь – соответственно тридцать мелкого или десять крупного с кормом для них на год. Нам бесплатно предоставлен участок в центре города для строительства ковчега. Правда, староста потребовал, чтобы мы привозили туда уже осмоленные с обеих сторон доски.
Когда через три месяца начался дождь, ковчег был уже готов. Кроме того, в его боковой вход постоянно въезжали подводы с запасами зерна, сыра, и прочего съестного, как для людей, так и для животных. Ной с сыновьями, ориентируясь по табличкам на груди сопровождающих, направляли подводы внутрь ковчега на разгрузку. Когда вода начала чавкать под ногами, потянулся бесконечный поток людей и животных. Некоторые на входе в ковчег пытались воспроизводить звуки того животного, кто был изображен на их табличке, однако Ной их грубо обрывал:
-Праведное животное должно возносить хвалу Господу, а не рычать или хрюкать.
Последние иудеи заходили в ковчег уже по колено в воде. Ной дождался, пока вода подступит к самому входу в ковчег, после чего приказал задраить вход. И снова помощь слона была как нельзя кстати.
Полутемный ковчег, который освещался только редкими масляными плошками, казался бесконечным. Он только снаружи был триста локтей в длину. А внутри человек мог идти из начала в конец пару часов. Никто не занимался такими глупостями, все были размещены в определенных местах. Входящие в ковчег не замечали, как уменьшались во много раз. День начинался с молитвы, во время которой левиты строго следили за тем, как возносят хвалу Господу иудеи с табличками животных и птиц. Заканчивался день тем, что через специальные отверстия навоз удалялся за борт. В конце каждой утренней молитвы левиты делали перекличку, предупреждая, что отсутствующий на молитве, будет удален с ковчега за борт вместе с вечерним навозом. За год плавания ни один иудей не пропустил молитву, не нарушил шаббат, и не съел на Пасху квасного. Все приносили жертвы и славили Господа. Еще бы, вся Иудея была покрыта стометровым слоем воды. За границей Иудеи воды не было, но там и не было иудеев. Бог интересовался только избранным народом и только от него требовал служения и покорности.
За молитвами и приведением в порядок корабля время шло незаметно. Когда через год вода спала, Бог еще раз явился Ною:
-Я достаточно понятно объяснил вам, что вы – твари Господни, и должны жить по моим заповедям? Левиты уже знают, что написать о потопе. И тебе, Ной, имеет смысл держаться этой версии. Даю обет, что больше вас топить не буду, однако есть много других интересных способов заставить наглый и самодовольный народ чтить Господа!
Мойша закончил рассказ. Его мать, Циля сунула ему в руку стопочку водки, которую от так и не взял:
-Сынок, ты меня пугаешь! Если ты сегодня выдал такого, даже не пригубив, что бы было, если бы ты выпил? – она обводит взглядом притихший народ в пивной, — Чего притихли? Правило знаете? Кто имеет сказать что-то против – ставка сто гривен. Если всех все устраивает – по десятке с носа и до следующей субботы! Арон Абрамович, может, посчитаете, хватило бы у Бога воды, чтобы покрыть стометровым слоем только Израиль?
Обалдевший атеист качает головой и кладет на стол десятку. Циля быстро обходит народ со шляпой, зло бормоча:
-Вырастила на свою голову болтуна! Мойша, на покушать тебе хватит! Эти бабки ты отработал! А теперь иди в сортир и отрабатывай те, что я тебе плачу!
Поездка в Карелию (часть 1)

Сидел на работке, листал Пикабу, и увидел пост чувака @shuffleboy , и прям загорелся. А тут как раз зарплата, 3 дня выходных, друг в питере живет. Все звёзды сошлись, звонок другу и через недельку мы у него.
Ехали мы из Москвы, и своего авто у нас нет, а целью нашего не долгого путешествия был город Сортавала. Заранее забронировали на праздники машину в аренду. Из за ногомяча вышло немного дороже чем планировалось, но в целом на четверых терпимо. За двое суток 6900 рублей, и залог в 11000. В эту сумму вошла так же доплата за безлимитный пробег, нулевую ответственность в случае ДТП, а так же плата за дополнительного водителя (планировали ехать по очереди). Достался нам немного побитый, со следами ремонта Hyundai Solaris с автоматической коробкой. Не хотелось дергать кочергу.
Начитавшись в интернете баек про то что подобные конторы зарабатывают на том, что при сдаче автомобиля вписывают в бланк не все повреждения, а в конце не возвращают залог, решили для перестраховки отснять на видео автомобиль при получении со всеми вмятинами и царапинами, а так же проверить все жидкости. Не знаю, помогло бы это или нет, но сделали. Вобщем приемка автомобиля заняла у нас минут 20-25 со всем оформлением, и в 9:30 утра мы выехали из Санкт-Петербурга, заправив солярис на выезде, полный бак вышел 1600 рублей.

На выезде из города естественно пополоскал дождь. Было бы странно если бы этого не случилось в Питере.
В принципе, до самого Приозёрска не было ничего интересного. У Приозёрска ж мы решили: а че б на Ладожское не посмотреть? Не далеко же съехать.
Да только вот на карте, набережная от Приозёрска выглядела стрёмно, без обозначения дорог, а застрять на солярисе, или оставить там его часть не очень хотелось.
Зато была прекрасная дорога до посёлка Сторожевое, туда и решено было ехать.
Но и там нас ждало фиаско, братан. Оказалось,что это закрытый военный посёлок, а дядька на КПП сказал.

Зато он он смог подсказать, что если проехать метров 300 назад, там будет поворот в лес, на базу отдыха, и там мы безпрепятственно сможем поглазеть на озеро. Ехать было не так уж и далеко, и все равно в обратную сторону.
База отдыха оказалась аккуратной и интересной. Связь в ней не ловила. Спрашивать сколько стоит номерок мы естественно не стали.



Вернувшись на трассу и проехав еще немного мы въехали на территорию Республики Карелия

Тряс руками как мог.

Там был один достаточно лютый участок, видимо занятый строительством трассы. Работала техника, экскаваторы, дробили и вывозили скалы. Сама дорога была насыпная и дико пыльная, и длилась примерно с минут 40. Слава корейцам, что в этой машине был салонный фильтр и кондиционер, иначе бы мы хрен там проехали. Но в принципе 60 ехать можно даже на солярисе.

Дальше началась приятная карельская дорога, вмеру извилистая, проходящая через скальные образования и окутанная озёрами. Ехать было одно удовольствие.



Незаметно мы доехали до Сортавалы, и решили сразу связаться с хозяевами места, где мы собирались ночевать.
Заранее погуглив места ночевки в городе Сортавала, цены сначала показались достаточно конскими. Большинство гостиниц и хостелов ломят цены до 2500 за койкоместо. Но в принципе было из чего выбирать. И совершенно случайно наткнулись на букинге на просто идеальный вариант для четверых. Уютный двухэтажный домик с двумя двуспальными кроватями, со всеми удобствами, душем, электричеством, мангалом, на берегу озера! Всего за 4000 за ночь. Считай по 1000 с человека!
По приезду оказалось все так как на фото. Приветливые хозяева, озеро, на кухне и в душевой тёплый пол.





Вобщем договорились обо всём, заплатили и поехали дальше.
Путь наш лежал до горного парка Рускеала.

Ехать до него от силы минут 40-60 от Сортавалы.
Там оказалось облагорожено. Есть вместительная, но плотничком забитая парковка. Сувениры, еда, туалет. Вход на смотровой маршрут стоит рублей 300. Студентам скидки, так что тащите свои студенческие билеты. К сожалению само благородие не сфоткал, оно нас не интересовало.


Вот та хрень на противоположной стороне карьера — площадка, на которой можно за деньги прицепиться альпинистским крюком за тросс и резво сехать прямо вдоль всего карьера на противоположную сторону. Но стоит сие действие не дёшего и очередь туда достаточно конская.
Так же можно покататься на лодке. Очередь туда тоже длинная, но одна лодка стоит всего 600 рублей, и в неё одновременно можно загрузиться вчетвером.




Я думаю, что это будет конец первой части, т.к. фотографии больше не лезут. В скором времени запилю продолжение.
Литстрим по Crusader Kings II.Часть XXXIII, 1117-1124 г.г.

Внимание: представленная заметка – лишь отрывок большой летописи о деяниях славного рода Крмовичей в игре Crusader Kings II. Под катом тьма-тьмущая букв, и это не конец и даже не начало. Если не хотите много читать, смело проходите мимо (желательно, без дизлайка). Если вы пропустили прошлый выпуск или хотите перейти к началу летописи, то:
— Ссылка на предыдущую часть здесь.
— Ссылка на содержание литстрима здесь.
1117 год от рождества Христова прошёл размеренно, без эксцессов. Я ждал, пока восстановится мобилизационный лимит после трёх, считай, параллельно проведённых военных кампаний: похода на Пинск против Литвы, войны за Переславль с Рутенией, попутно пришлось отбить крупный половецкий набег под предводительством хана-иудея Севенка.
Помимо лимита, я дожидался, когда ж уже умрёт наш престарелый царь Стоун (ko4evnik_v), дабы в спокойной, можно сказать «дружественной» обстановке избрать на престол его старшего сына Хроссуса (Hrossus). Выборы обещали пройти гладко. Явку наши местные полит. прогнозисты предрекали 100%, да и результат выборов был предопределён. Все великие князя столь уважали Стоуна, накопившего за годы правления over 6500 баллов престижа и over 4000 баллов благочестия, что были согласны проголосовать за Хроссуса. Ежели кто запамятовал, «все великие князья» — это ровно три человека: Псковский, Белозерский (со столицей в Костроме) и Карельский (со столицей в Сурже). Вкупе с самим царем, список избирателей ограничивался четырьмя персонами. На всю страну. Ну, и нефиг плодить сущности. Выборы царя — дело ответственное, неча превращать их в толкучку.
Одна загвоздка — Стоун не помирал. 4 февраля 1118 года он отметил 74-ую годовщину своего рождения и уже вовсю изготовился штурмовать вершину 75 лет. Родовитые бояре в комментариях даже стали поговаривать: дескать, не грех бы Царю Батюшке на старости лет развеяться. Разменять, так сказать, душные палаты дворца на свежий степной воздух. Скажем, встать во главе сотни (не больше) добрых воинов выехать сразиться с какой-нибудь разбойничьей бандой, числом эдак за 1000. Однако я отверг оный совет с негодованием. Убивать столь раскаченного персонажа было жалко. К тому же, в своём литстриме я не стремлюсь к 100% эффективным решениям.
Я не столь большой эксперт в игре. Фактически это мое первое полноценное прохождение Crusader Kings II, потому и задачи «показать скиллуху» я перед собой не ставлю. Мне важней рассказать интересную историю. Пускай в ней будут интересные и неожиданные повороты, но они должны быть логичными для героев. Так, чтобы старик Мартин взял да и удавился от зависти.
Однако сидеть и ждать, пока Стоун изволит помереть, вскоре стало скучно. С Рутенией действовал договор о мире. На владения Британской империи в Прибалтике не имелось клэймов. Оставалась одна перспектива — дранг нах. ой, то есть, освоение диких земель востока. Либо Великой Степи, либо Урала. Однако и тут имелась проблема, уже не раз «пережёванная» в моей нескончаемой летописи. Перевод провинции с кочевой культурой в феодализм таил в себе немалые сложности. Он требовал и денег и, самое главное, времени, а время Стоуна могло истечь в любой момент.
Но всё же своим зорким геополитическим взором я разыскал заманчивую цель для похода — великое вождевство Мордовское.

Земли мордвы томились под ярмом Хазарского Каганата, однако, в отличие от других территорий степной империи, они имели не кочевую культуру, а племенной строй. Местное население тоже требовалось «обратить» в феодализм, но с этим можно было и не торопиться. Оседлые племена не снимались по произволу кочевать с обжитых мест, вываливаясь из состава государства.
К тому же, некоторые покорённые каганатом мордовские земли оказались весьма развиты. Цивилизация в лице феодализма успела пересечь берега Оки и Дона. В частности, в самой Мордовии были застроены все ячейки поселений! Реально, не осталось ни одной свободной. Помимо племенной деревушки, там имелись и храм, и город, и даже замок. Прям хоть бери и в царском домене вотчину оставляй.
Развязав против хазар священную войну, вместе с Мордовией можно было выхватить две дополнительные провинции: Буртасу (видимо, названную по племени буртасов) – и Хопёр.
Из трёх перечисленных территорий лишь Хопёр-не-Инвест оказалась не отличной провинцией. Там господствовала кочевая культура, подсказывающая своим представителям чуть что рвать когти в степь. В Мордовии и Буртасе же кочевники не проживали.
Таким образом, в случае успеха мы по-любому удерживали за собой две провинции из трёх, даже если Стоун вдруг надумает помереть. А ежели он не надумает, то и Хопёр успевали «дотянуть» до феодальных стандартов.
Плохо было то, что отбить перечисленное добро надлежало не у какого-то прощелыги, навроде халифа Литовского, а у Великого Кагана.
В своё время роду Крмовичей пришлось повоевать с хазарами за Великий Устюг и, скажу честно, мне оно ни фига не понравилось. Землю мы завоевали, но лишь благодаря наёмникам и везению. Кагану стало не до нас, когда в рядах степняков вспыхнула очередная замятня. Однако я хорошо запомнил, как лихо кочевники отметелили нашу дружину в битве близь Оки, при подавляющем, могу добавить, численном превосходстве царёва войска.
По состоянию на 1118 год, Хазарский Каганат вполне неплохо себя чувствовал. Кочевая Империя знавала лучшие времена, но и сейчас на жизнь не жаловалась. Достаточно было взглянуть на карту.

Но охота, как известно, пуще неволи, а скука — вообще смертный грех. Выждав до конца года, дабы лимит восстановился весь до копеечки, я решился объявить кагану священную войну за Великую Мордовию (Хопёр, Буртасу и саму Мордву). Эти земли не входили де-юре в состав Российской Империи, но прибрать их к рукам всё равно следовало.
Война была объявлена в декабре 1118 года. Не став раньше времени тратить золото на наёмников, но позвав на выручку всех вассалов, я начал формировать войска.
Признаться, дело попахивало большой авантюрой. Я даже заранее изготовился свалить вину за провал на Стоуна, отметив в летописи, что на старости лет Царю нашему Батюшке ударили, что называется, седина в бороду да бес в ребро. Ни с того, ни с сего приперло солнцеликому венценосцу повоевать с кочевниками за мордовские вотчины. Был человек как человек, а потом вдруг взял и решил дать повод местным рифмоплётам сочинить исторический шедевр — «Слово о полку. «. Только не Игоревом, а Каиновом, поскольку второй царский сын (komissar_cain) был назначен воеводой в армию. Отповедь должна была увенчаться печальным выводом: «Вот, дети, чего с людьми длительное пребывание у власти делает вкупе со старческим маразмом».
Однако раньше времени искать стрелочников не следовало. Авантюра да маразм, не исключено что и присутствовали, но раскаченные за годы перки-то уж точно никуда не делись. У Стоуна были основания верить в успех.
В марте 1119 года Оку форсировало невиданное войско — 10 500 тыс. царских воинов, и это ещё не все дружины вассалов подоспели. Армию таких размеров Русское Царство не собирало никогда.

Не отходя далеко от реки, царские воеводы неторопливо взяли в осаду поселения Мордовии. Однако хазары не испугались! 11 апреля 1119 года в Причерноморье они собрали свою орду численностью в 10 500 рыл.
Дело запахло жареным. Армии вышли равной численности, но у степняков был тотальный перевес в конниках, на которых и держалось всё их воинство, включая противных конных лучников, весьма гожих для борьбы с нашей тяжелой пехотой.
Хазарская орда двинулась на север на перехват царёвой армии. К 25 июня 1119 все поселения Мордовии были захвачены после череды успешных осад, но, спрашивается: толку-то?
Благо, к середине лета до Оки, наконец, добрались дружины вассалов, великие князья подогнали 2500 человек подкрепления, и царская армия доросла до 13 000 воинов. Численное превосходство, таким образом, оказалось за нами, но его нельзя было назвать решающим.
На севере ещё собрался отряд великого князя Карельского, но воинов там было не больше 700, да и находился он уж слишком далеко.

Разумеется, у царя Стоуна имелось в резерве могучее оружие — деньги. В казне ждали своего часа 550 золотых рублей. Этого вполне хватало на 2 крепкие банды наёмников. Однако, будучи собранными в Новгороде, отряды никак не успевали добраться до Оки раньше хазар.
Перед царскими стратегами встал выбор: либо отступать за реку, сдавая занятые поселения, добирать наёмников и уж затем возвращаться, либо давать генеральное сражение здесь и сейчас.
Я решил дать бой! На моё решение повлиял тот факт, что вассалы великого кагана тоже не остались в стороне, и послали своему властелину подкрепления. В Причерноморье собралась вторая орда из 2,7 тыс. конников. Эта сила вполне компенсировала 2 потенциальные банды наёмников, и дать ей объединиться с основной ордой кагана было нельзя.
Большие надежды я возлагал и на наших воевод. У самого слабого из них военный навык равнялся 19. Царский же сын Каин дорастил скилл до 21 пункта.
6 августа 1119 года 10 500 тысяч хазар под началом великого кагана с разбегу врезались в 13 000 тысяч русских дружинников. Началась сеча, достойная экранизации самого Питера Джексона.

К счастью, глаза у страха оказались велики. Я переоценил противника, решив, что вся вражеская орда поголовно состоит из всадников. На деле же конных лучников в войске кагана оказалось не больше 1000, обычных всадников около 4000 тысяч. Остальное вражеское войско, видимо, состояло из вассальной мордвы, выставившей 1500 легкой пехоты, 1000 тяжелой и ещё 1000 копейщиков.
Каган сделал ставку на быстрый удар. Собрав конницу в кулак, он лично повёл её на центр русской армии. Центр, под предводительством Каина, «прогнулся», но не рассыпался. Дружина понесла большие потери, у бойцов серьёзно упала мораль, но они устояли, выдержав натиск и выиграв время.
Указанного времени хватило правому и левому крылу нашей армии, чтобы перейти в наступление и ударить во вражеские фланги. Левое крыло хазарской армии, где не было даже полководца, пало духом и обратилось в бегство практически моментально. Правое крыло, возглавляемое одним из сыновей кагана, продержалось подольше, но и там сопротивление врага было сломлено. Тяжелая царская пехота перерубала в капусту легковооруженную мордву. Сын кагана даже угодил в плен.
Затем наши фланговые полки попытались зажать армию кагана в тиски, но юркая конница успела выскользнуть из ловушки. Однако результат битвы был однозначен. Хазары бежали вместе с каганом, потеряв больше трети войска. Счётчик войны сразу засчитал нам 70% победы.
Вот так-то! А вы ещё чего-то там говорили о вредности несменяемости власти. Царь Стоун всё просчитал, всё продумал.
Битва предрешила исход противостояния. Поводом для огорчения стал лишь Каин, получивший в бою серьёзные ранения. Я отправил царевича домой в Псков, к супруге, заживлять раны, полученные в боях за отечество. Вернее. чтобы оного отечества стало больше.
За следующий год царская дружина заняла Хопёр и Бурсу, а затем разорила каганскую ставку на Волге. Увы, никаких китайских артефактов воинам найти не удалось. Хазары попробовали взять реванш. 11 мая они вывели 7000 солдат против 9500 наших, но успех вновь сопутствовал царским воеводам. Второе сражение стало, фактически, повторением первого, только в меньших масштабах.
В итоге каган сдался, уступив разом три провинции, включая развитую до четырех поселений Мордовию. Как водится, мировое сообщество вновь объявило царя Стоуна угрозой стабильности. Впрочем, дедушка был уже старенький, ему было всё равно.

Мордовия, Бурса и Хопёр вошли в состав русского государства. Хазарский Каганат оказался «разломан» на две части. Как знать, вдруг из-за случившегося у оставшихся под властью степняков племён мордвы проснутся сепаратистские настроения? Это было бы весьма кстати.
В завоёванном Хопре не оказалось ни стен, ни рынка, поэтому я сразу заказал в провинции строительство замка, потратив 550 монет (наёмников ведь нанимать так и не пришлось). Решил, что так будет надежней. Время, необходимое на возведение замка, Стоун был способен «перепыхтеть», а вот срока, необходимого для улучшения стен и рынка, мог и не дождаться.
Остальные земли «экстренных инвестиций» не требовали. Следовало только вновь разгрузить переполненный лимит владений.
Как на грех, к концу войны умерла верная жена, ближайшая соратница и ученица нашего правителя, царица Ансе, а вскоре и из Пскова пришло известие об утрате. Царевич Каин всё же скончался после болезни, не оправившись от полученных ран.

Сугубо чтобы вернуть даруемые супругой бонусы к навыкам, я решил подыскать царю новую жену. Стоуну было уже 77 лет, как бы, не лучший возраст детей рожать, потому я смотрел лишь на навыки будущей царицы. В результате мой выбор пал на 42 летнюю датчанку Линду.
Молодая, мало того, что была уже не молода, так ещё оказалась католичкой. Однако уровень казначейства у неё был развит до 24 пунктов, чего и требовалось для поддержания лимита на число владений и вассалов. Неудобно, конечно, было сажать на русский трон царицу католичку, но, по моим расчетам, восседать ей там предстояло недолго. 1-2 года, если не месяца.
Лимит владений был восстановлен, однако, передавать вотчины вассалам всё равно пришлось. И так я прикидывал, и эдак, но Мордовия, невзирая на наличие 4 поселений, ну никак не впихивалась в царский домен. В итоге я решился на создание четвертого герцогского титула.
11 мая (в день победы над хазарами) было провозглашено великое княжество Рязанское, в состав которого я включил все покорённые провинции: Мордовию, Буртасу и Хопёр.

Кандидатуру на великокняжеский престол я подбирал долго, но в итоге остановил свой выбор на 11-летнем Руслане Герасимовиче Крмовиче. Он был старшим сыном любимой царевой дочери — Эмбер (AmberSpirit). Паренёк рос перспективным. Жаль, игра не позволила мне выбрать ему имя при рождении. Однако Руслан — имя для нас знаковое. Будем считать, что Эмбер назвала сына в честь древнего члена нашего рода, царевича Руслана (ruslan_rb_kg), основателя ветви Крмовичей-Псковских, притащившего в нашу страну большую долю греческой культуры.
К слову, о Псковской ветви династии. Невзирая на потерю любимого мужа Каина, осенью 1119 года, через пару месяцев по окончанию войны с хазарами, великая княгиня Псковская, нет. не решила избавиться от своего вдовствующего положения.
Заместо поиска нового мужа, она вдруг взяла и купила клэйм на Пярну — соседнюю к западу провинцию, входившую в состав королевства Богемия, и. сходу решила приобретённую претензию реализовать.
Момент княгиня подобрала весьма вероломно (недаром гречанка по культуре, хоть дети у неё русские). Пока мы боролись с хазарами, славяне Богемии сцепились с Британской Империей за восточную и южную Польшу. Конфликт протекал с переменным успехом, но к лету 1120 года стало ясно: наглые англо-скандинавские империалисты выходят из войны победителями. Княгиня резонно решила — настала пора показать богемцами «чьи в лесу шишки» уже и от себя. Помощи столицы псковичи просить не стали. Справились сами.
25 ноября 1120 герцог Риги, вассал короля Богемии, отказался в пользу Пскова от провинции Пярну. Великое княжество получило свой выход к Балтике.

Неплохо-неплохо! Правда, что интересно, за действия княгини царю Стоуну, похоже, чутка подкинули штрафа к мировому осуждению, но. и «пелевать на то было уже с высокой колокольни». Наш царь стал уж настолько крут, что его вассалы могли и сами у иноземных королей земли отжимать.
Жаль. не бывает так, чтобы всё в жизни шло хорошо.
Весной 1121 года столичный люд не досчитался во дворце важнейшего члена царского рода, и. нет — это не Стоун таки надумал отдать Богу душу. Утром люди встали, пошли дела делать, а царевича Хроссуса-то нигде и нет!
Мне указанная новость пришла с объявлением, что необходимо назначить нового казначея, пост которого царевич и занимал.
У меня аж волосы дыбом встали! Вроде, ничего же не предвещало. Старшой царевич не болел, а заговоры я отслеживал. Однако, как оказалось, Хроссус-то наш живой. Не помер, просто укатил прочь со двора со своей женой Жужой аж в Валахию!

Короче говоря, случилось следующее: ни с того, ни с сего вся родня Жужи резко померла. То ли от болезней, то ли от взаимного самоистребления. Не исключено, что и от того, и другого разом. Молодой девушке, мирно пережившей все опасности меж семейных разборок в далёком Новгороде, внезапно откололся герцогский титул, вкупе с тремя графскими!
Жужа стала господарыней Валахии, входившей в состав Византийской Империи. Получив титул, она, не будь дура, решила, что наш новгородский климат ей не больно-то и подходит. Забрав детей, а заодно и нашего наследника Хроссуса, она укатила в Валахию. Называется: «Всем пока, пишите письма».
Отойдя от шока, я попытался осмыслить произошедшие. В принципе, наследства Хроссуса никто не лишал. Он считался наследником Стоуна и первым кандидатом на трон. В этом плане ничего не изменилось.
Что важно, у самого царевича уже родился первенец — Михаил (werta1995), который, в свою очередь, стал наследником не только титулов отца, но и матери. Я специально посмотрел, имя Михиала значилось первым в списке претендентов на трон Валахии.
Вроде, случившееся было нам даже выгодно. Станет Миша и Царём Русским, и господарем Валахским. Далековато страны друг от друга, но много титулов — не мало. Валахия вполне развитое герцогство, давно уже феодальное.
Однако меня смущали два момента:
Первый — я потерял контроль над Хроссусом, а с ним и над Михаилом. Покинув Новгород и уехав в Валахию, царевич попал под полное влияние жены, и чего они там вместе нарешают без мудрого царского надзора — одному Богу известно.
Второй — а не придётся ли Михаилу, вступив на русский трон, принести оммаж императору Византии за Валахию? По аналогии, как короли Англии долгое время присягали Франции за Аквитанию. Ежели оно так, выходит, Валахию-то Миша получит, но вместе с ней вся наша Русь исконная препосконная вольётся в состав Византии! А нам оно надо? Ну, разве что, монгольское нашествие вместе пережить, да и то.
Подумав, я поступил сугубо по-нашему, отложил решение вопроса на «потом». Ещё Стоун не помер, а я уже думаю о перспективах его внука Михаила.
Сперва следовало мирно и спокойно возвести на трон Хроссуса, а там уж буду кумекать. Сняв игру с паузы, я стал ждать, пока Стоун помрёт.
Ждал я ждал и. дождался. Правда, не того. В 1123 году Царю Батюшке исполнилось 80 лет, но. он не умер. Вместо вечного покоя, сей могучий муж заделал ребёнка уже новой жене! Той самой датчанке Линде, которую в Новгород привели сугубо лимит владений поддержать.

15 мая 1123 года пришла весть о том, что новая царица «отяжелела».
Обалдеть. и, вы знаете, я даже верю, что это наш великий Царь Батюшка сам постарался. Невзирая на преклонный возраст, он не стал «испрашивать поддержки» у молодых придворных богатырей.
Просто. 15 декабря 1123, когда роды состоялись, я увидел, у царя-то не только сын родился, но глаз зажил! Тот самый, которого он лишился в результате хирургического вмешательства ещё в 1098 году, когда бушевала Чёрная Смерть.

Новорождённого мальчугана я назвал Мамай-Раздолбу в честь MamayRazdolbay, но меня больше интересовал Стоун. Уж не рептилоид ли наш Царь?!
Впрочем, тревога была ложной. Глаз по факту оказался стеклянным. Видать, Стоун как-то вставил его себе, используя знания Ордена Герместистов.
Но даже и так, помирать ента сволочь, похоже, вообще не собиралась. Ибо, когда планируют свидание с апостолом Петром, больше о спасении души думают, а не глаза себе стеклянные вставляют и детей с новой женой заделывают!
Раз пошла такая пьянка, 1 февраля 1124 я послал канцлера в Рутению, выкупать клэйм на Смоленск. Будем бить соседей, пока Стоун жив, чего ещё делать?

PS. Благодарю за помощь в подготовке заметки basic_dormouse. Если Вам понравилась моя заметка, приглашаю вас в свой журнал. По ссылке Дайджест Вы сможете прочитать самые интересные обзоры, рассказы и статьи за моим авторством, а так же когда-нибудь заценить сделанную мной игру в RPG Maker MV
ОПГ Питерские Бакланы на гастролях
Некоторое время назад мэр Санкт-Петербурга шокировал общественность заявив, что бакланы склевали крышу строящегося стадиона Зенит-Арена. Орнитологи опровергли это заявление, но теперь их выводы под вопросом.
Недавно закончилось строительство 4х-полосной дороги к новому стадиону «Нижний Новгород». Так выглядит один из выездов с большого спального района «Седьмое Небо» на дорогу, ведущую к стадиону. Сравните ширину припаркованного а/м волга и узкого места дороги, находящегося на повороте. Очевидно, разъехаться на таком участке, не зацепив бордюр и встречный а/м, сможет только опытный бильярдист. Кроме того, чтобы перейти дорогу, пешеходы вынуждены отстоять 2 светофора (сначала перейти налево, затем к реке).

Раньше на этом месте был пустырь, там нет никаких закопанных труб/кабелей, которые могли помешать сделать дорогу прямой. Попробую предположить, как дорога выглядела на плане, до того, как печально известные бакланы саботировали стройку:
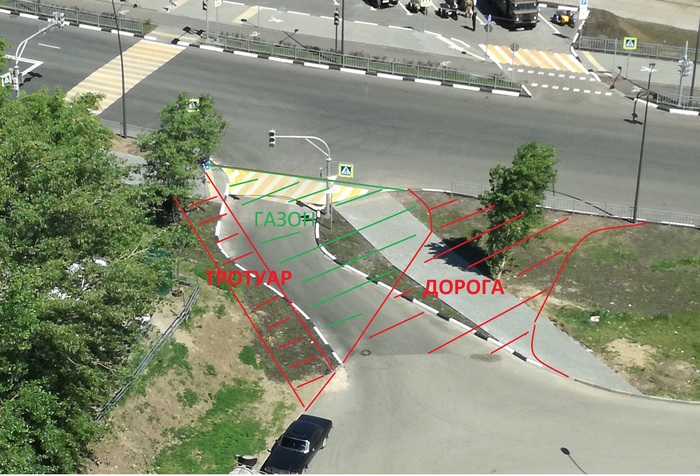
В связи с этим призываю всех пикабчан быть бдительными. Неизвестно куда гастролеры отправятся дальше. При первых признаках появления этих птиц в вашем городе обращайтесь в надзорные органы.

На этом злобные летуны не остановились. Они запустили свои руки клювы в бюджет того самого стадиона, построенного к ЧМ по футболе, к которому идет дорога. Из-за этого стадион остался без стен (согласно изначальному плану его должны были остеклить). Находчивые бакланы также нашептали чиновникам замечательные отмазки.
Знакомый, посетивший тестовые матчи, сказал, что на трибунах очень ветрено. Температура была +15, но было холодно даже в куртке из-за постоянного ветра. То есть с середины осени до середины весны стадион, возможно, будет непригоден к эксплуатации. Заявлено, что стадион оборудован современной системой отопления и все будет в порядке. Остается надеяться, что он не будет заброшен после чемпионата из-за низкой окупаемости. Поживем — увидим.

Всемирный потоп(одесская версия часть 1 из 2)
-Вы мне скажите, как можно в это верить? — воинствующие атеисты были не редкость в пивной старой Цили. А почему бы и нет? – Пиво пьет, платит, а говорит, что придется – так это ведь его грех перед Господом. Только болтать такое за четверть часа до окончания шаббата? Тем более что в пивной в это время народа в два-три раза больше, чем обычно. Сразу после четырех вечера, должен прийти Мойша, сын Цили. Он приходит в пивную своей матери, как клиент, только раз в неделю, сразу после окончания шаббата. И что за клиент для пивной, который пьет не больше ста грамм?
Однако Мойша, после того, как немного выпьет, рассказывал что-то такое, что все в пивной слушали его, затаив дыхание. Что именно, никто заранее сказать не мог. Обычно тема была связана с тем, о чем в данный момент говорили в пивной.
А атеист не унимается:
-Вы мне скажите, если Бог затопил землю водой так, что покрылись с верхом все горы, то куда сейчас делась вся эта вода? Впиталась в землю? Или испарилась? Тогда почему никто сейчас не может найти эту воду? Что вы скажете, Шмулик?
Шмулик внимательно рассматривает разгоряченного атеиста. Толстый, невысокого роста, с уже редеющими волосами на макушке. Паузу тот использует для того, чтобы быстро допить бокал пива. Пена сползает по бокалу и светлой лужицей растекается по столу. Шмулик ухмыляется:
-Я – всего-навсего бухгалтер. Я умею считать – и только. Вы посчитали все правильно. Если собрать всю воду, которая есть в атмосфере, растопить все ледники, то уровень воды океанов поднимется только на три метра. Однако когда у меня течет раковина или забивается канализация, я не считаю, сколько воды у меня в доме, откуда и сколько втекает, и куда сколько вытекает. Я просто зову Мойшу. Он довольно хороший сантехник. Я не знаю, что и как он будет делать, знаю только одно. Вода после работы Мойши будет течь оттуда, откуда нужно, и уходить туда, куда нужно. Почему бы не спросить у сантехника, куда ушла вода после потопа? А вот, кстати, и Мойша!
Атеист немного разочарован:
-Шмулик, мы с вами интеллигентные люди, с высшим образованием! Зачем нам в интеллектуальном споре мнение простого сантехника?
-Арон, когда речь идет о дебете с кредитом, я не буду спрашивать мнение Мойши. Его мама, Цилечка, дай ей бог здоровья, понимает в бухгалтерии, если не больше меня, потому я спрошу ее совета. Если речь идет о потопе – я позову сантехника. А если это потоп, который сделал Господь, то мне нужно также обратиться к раввину!
-То есть сначала к сантехнику, а потом к раввину? – зло ухмыляется атеист, — Так вот, Шмулик, какой вы верующий!
-Арон Абрамович, шаббат только что закончился, а вы уже вовсю говорите против Господа! – Мойша подходит к столу спорщиков, — Здравствуйте, господа! Вас таки интересует мнение сантехника по поводу потопа?
Арон, который отпивал из второго бокала, вздрагивает, и пиво снова льется на стол. Он ставит бокал на стол и хмыкает:
-Ну и что вы можете сказать по этому поводу?
Мойша достает газету и показывает ее Арону и Шмулику:
-Если бы это был мир, населенный разумными существами, то его создал человек. Существа, которые возможно, живут на этой газете, вправе верить в бога. Эту газету сделали только вчера, потому мир на ней очень молодой. На нем нет воды, и существа, которые его населяют, никогда ее не видели. А теперь, если вы не против, я немного побуду богом! – Мойша тщательно вытирает газетой пивные пятна на столе, оставленные Ароном, — Будем надеяться, что потоп от пива, им понравится немного больше, чем людям потоп от воды!
-И что это должно значить? – озадаченно спрашивает Арон.
-То, что вы хотели услышать. В мире, в котором никогда не было пива, оно внезапно появляется в таких количествах, что вся поверхность мира становится мокрой. А потом пиво исчезает неизвестно куда! – Мойша сжимает газету, и пиво льется на пол, — Через часик газета высохнет полностью, и оставшиеся в живых составят Тору или Библию, в которой будут писать о том, как Бог прогневался на людей и пролил на них пиво. Все плохие люди захлебнулись и утонули, а все хорошие выжили. Как думаете, Арон Абрамович, будет ли в их Библии версия о том, что я просто хотел вытереть пивные пятна со стола?
Те, кто это слышал, в том числе и Арон со Шмуликом, весело хохочут. Первым становится серьезным Арон:
-Мойша, если вы не верите в бога, то почему вы чтите шаббат?
-Я не говорил, что не верю в бога. Если кто-то придумал, что раз в неделю после захода солнца в пятницу и до захода солнца в субботу не нужно ничего делать – это совсем неплохо! Если Бог говорит, что человек раз в неделю должен отдыхать, не соглашаясь работать ни за какие деньги, и ни под какими угрозами – это хороший, добрый Бог. Человек должен отдыхать. Если Бог решил утопить всех людей и животных, и при этом дает шанс спастись Ною с сыновьями, а также спасти всех животных и птиц – это разумный и рачительный Бог. Он видел, что люди и животные — это хорошо, и топит только плохих. Я был плохим богом для существ на этой газете. Я не создавал их, и не интересовался тем, живут ли они праведно. Вполне возможно, после того, как эта газета высохнет, какой-то атеист на ней тоже будет говорить о том, что пива не существует, потому что не на газете, ни в воздухе возле нее его нет.
-И как вы объясните, откуда взялась и куда делась вода после потопа из Библии или Торы?
Мойша поднимает руку с влажной газетой:
-Я уже объяснил. Если вы хотите спорить с Торой или Библией, вам не стоит анализировать действия Бога. У него сил и возможностей больше, чем может представить себе самый умный человек. Другое дело, когда Бог что-то поручает сделать человеку. Вот это и имеет смысл проверять. А смог ли человек сделать такое?
Библия говорит, что Ною на начало потопа было шестьсот лет. И Бог поручает этому почтенному старцу построить огромный ковчег из дерева гофер. И вас, Арон Абрамович не смущает, что дерева гофер не существует? И что престарелый человек, который никогда не держал в руках пилу и молоток, находит это дерево, сооружает корабль, в который помещаются все животные и птицы Земли с запасом корма на триста шестьдесят дней. А почтенный Ной, который каким-то чудом сумел собрать эту орду из животных и птиц, вместе с кормом для них, живет с ней в этом ковчеге вместе с женой, а также со своими тремя сыновьями и их женами. Вы считаете, сколько воды было вылито на Землю? Оставьте, это Господу.
Вы лучше посчитайте, как восемь немолодых евреев кормили и поили всех животных и птиц Земли, а также убирали за ними навоз. Почему в Одесском зоопарке, в котором нет и сотой доли всех животных и птиц Земли, работает больше тысячи человек? Или престарелый Ной с сыновьями были слишком расторопными, или в Одесском зоопарке работают бездельники.
Кстати, в Библии не написано, куда именно они убирали навоз. А только один слон в день наворачивает его двести кило. У ковчега был боковой вход, который во время плавания не открывался. Кроме того, там было отверстие сверху, тоже закрытое. Как сантехник вам говорю, в ковчеге было все сделано крайне не гигиенично с точки зрения сантехники!
Еще Господь сказал Ною взять птиц и животных, чистых по семи пар, а нечистых по паре. Потом в Библии пишут, что на ковчег вошло по паре каждого скота и птицы. Как тогда Ной принес жертву Господу из чистых тварей? Выходит, он его ослушался!
-Все, что вы сказали, просто невозможно объяснить! — победно осматривает всех Арон. Мойша качает головой:
-Простите, но это еще не все неувязки, которые есть в сказании о потопе. Как известно, в ковчег вошли только почтенный Ной с женой, а также его сыновья и их жены. Восемь иудеев, которые должны стать единственными людьми, выжившими после потопа. Я понимаю, что потомки Хама, которых не обрезали, которые перестали есть кошерную пищу и блюсти шаббат, могли за несколько тысяч лет утратить национальные черты лица и характера, а потому стать русскими или украинцами. Мне только не понятно, как при таком раскладе мог появиться афро-украинец Мганга из Нигера?
Черный, как ночь, здоровенный негр исправляет на ломаном русском:
-Моша, я узе гаварить. Мнганга из Нигерии!
-Извините, Мнганга, вы тоже не можете правильно выговорить мое имя. Вот только не нужно сейчас говорить о Божьей воле. Если еврейская женщина родит курчавого шоколадного мальчика с черной сосиской почти до колена, ее муж вряд ли поверит в Божий промысел. Скорее в то, что Мнганга заасфальтировал не только дорогу вдоль его дома, но и дорожку в его спальню.
-Все это доказывает, что потоп – это выдумка! — заключает Арон, — Все, что сказал Мойша, объяснить невозможно!
-А вот здесь вы ошибаетесь, Арон Абрамович! Я не уверен, что было именно так, как я сейчас расскажу, но это объясняет все неувязки, о которых я сейчас рассказал.
-Патриарх, зачем кричать на гоя? Ему нужно тихо сказать, чтобы он пошел на задний двор и получил свои двадцать плетей! – хозяин магазина Изя был не намного старше приказчика, рассердившего Ноя. Однако в умение обращаться с клиентами ему не было равных. Поэтому если Абрам, его брат, допускал оплошность, он тут же приходил на помощь. А сейчас это было просто необходимо. Самый пожилой и самый богатый человек города недоволен. А Абрам все еще не проникся ситуацией. Он обиженно завопил:
-За что? Он хочет невозможного! — он хотел еще что-то сказать, однако Изя ткнул его рукояткой плети в солнечное сплетение. Пока приказчик пытался вдохнуть, Изя еще тише сказал:
-Тридцать плетей! И патриарх уже через минуту должен слышать твои вопли!
Абрам наконец-то смог вдохнуть. Он, бешено вращая глазами от злобы, шепчет:
-Слушаюсь, хозяин! – схватив плеть, он мгновенно исчезает за дверью, и уже через полминуты оттуда раздается свист плети и вопли боли. Если бы Ной заглянул туда, он бы увидел, как Абрам лупит плетью по бревну и тут же орет, вроде как от боли.
Ной, немного успокоившись, уважительно смотрит на Изю:
-Вы очень строги к своим людям. Даже не узнали, в чем он виноват, а уже назначили тридцать плетей!
-Если бы он был виноват, я бы назначил ему шестьсот. По числу ваших лет патриарх. Вы почтили вниманием мой маленький строительный магазин, а он посмел вас огорчить! Итак, вам что-то нужно? – у Изи в руках появляется дощечка, покрытая воском. Ной начинает диктовать:
-Мне нужно дерево гофер! И смола!
-Позвольте уточнить, уважаемый Ной. Вам нужен сырой кругляк гофера, обрезная или не обрезная доска? Если доска, то какой толщины? Сколько кубов будете заказывать? Самовывозом или с доставкой?
Ной только через десять секунд закрывает рот от удивления. Еще полминуты ему нужно для того, чтобы собраться с мыслями. Наконец, он выпаливает:
-Я не знаю, что из этого мне нужно! Мне нужно построить одну штуку из дерева гофер, однако я знаю только ее размеры. Я обошел уже сотню торговцев, и ни у одного из них нет дерева гофер. А у тебя есть и кругляк, обрезная и не обрезная доски. А что мне нужно для строительства?
-О, патриарх! – разводит руками Изя, — В строительстве используют все эти материалы. У вас есть проект строительства? Если бы я мог взглянуть, я бы…
Ной сердито перебивает:
-У меня нет проекта! А если бы он и был – я бы тебе его не показал!
Изя делает еще одну попытку договориться со строптивым клиентом:
-Вы уже наняли бригаду для строительства? Я бы мог поговорить с …
-Нет у меня никакой бригады! Я должен все сделать сам!
-Со всем уважением патриарх, однако, если вы не знаете, что вам нужно купить для строительства, то вряд ли у вас достаточно опыта, чтобы сделать задуманное. В вашем возрасте и с вашим состоянием нужно руководить строительством, а не строить это своими руками!
Ной задумывается. В словах Бога не было прямого указания, чтобы он делал ковчег собственными руками. Бог также не говорил о секретности этого предприятия. Ной оценивающе смотрит на Изю:
-А ты можешь взяться за строительство?
-Конечно! Что вам нужно построить, патриарх?
-Ковчег в три этажа. Длина – триста локтей, ширина – пятьдесят, высота тридцать, осмоленный снаружи и изнутри. Возьмешься?
-Конечно, патриарх! Завтра к обеду приду к вам для утверждения сметы, вы дадите задаток в треть суммы – и за работу!
-Смета? Это еще что такое?
-Патриарх, вам нужны не только дерево гофер и смола. Смета включает в себя все. Нужно жилье для проживания рабочих, еда для них, инструменты и многое другое. Прежде, чем я приступлю к строительству, вы должны узнать, во сколько оно вам обойдется! А вдруг оно будет настолько дорогим, что у вас не хватит денег или желания, чтобы сделать задуманное?
-Я могу узнать хотя бы приблизительную цифру? Сколько стоит это дерево гофер?
— Завтра, патриарх, вы узнаете все! У нас есть опыт строительства, и с моим уважением к вам, я составлю смету совершенно бесплатно! Внутренние работы в ковчеге заказывать будете?
-Это еще что такое? – Ной уже почти успокоился. Он попал к профессионалам, которые просчитают все необходимое, в том числе и это таинственное дерево гофер. И этот услужливый парень совершенно не похож на мошенника. По крайней мере, денег вперед не просит!
— Если то, что вы заказали, будет баржей, которую вы засыплете зерном, и потащите за галерой – этого будет достаточно. А если вы будете перевозить в нем людей, или животных…
-Буду перевозить! – зло перебивает Ной. Его тайна вылезает наружу, как шило из мешка, — И людей, и животных! Там должно быть место для проживания для меня, моей жены, трех моих сыновей с женами, а также место для всех животных и птиц Земли, с кормом для них и для моей семьи на год!
-Создание такого корабля требует проекта. Смею ли я просить уважаемого Ноя о небольшой сумме задатка для его составления?
Ной достает увесистый мешочек с монетами и швыряет его Изе:
-Этого, надеюсь, хватит?
-Да, патриарх! Смета будет готова завтра к обеду!
Едва за патриархом закрылась дверь, Изя негромко говорит:
-Абрам, он ушел! Нам пора работать!
Из-за двери выглядывает приказчик, протягивает Изе плеть, и недовольно гнусавит:
-Бгат, ты назвал меня гоем!
-Потому, что ты думаешь, как гой! К нам пришел заказчик… — Изя осматривает плеть, — Аккуратнее можно? Если этой плети не хватит на месяц, вычту у тебя из жалования ее стоимость!
-Он тгебует невозможного! Дегева гофер не существует! В ковчег с такими газмерами не поместятся все животные и птицы Земли! При таких габагитах без киля эта посудина опгокинется!
-Нет дерева гофер – сделаем из кедра. Все равно смолить с двух сторон. Сделаешь киль, какой считаешь нужным, а вместо балласта мы его набьем сухим сыром и пшеницей. Этажи разобьешь так, чтобы поместились все животные вместе с людьми, которые за ними будут ухаживать! А уж Ной упросит бога, чтобы вся эта орава уменьшилась до нужных размеров и ела только сыр и пшеницу! Об этом он догадается сам, как только первый раз накормит слона, и уберет за ним навоз!
Кстати, есть у меня на примете один слон, которого отдают слишком дешево. Явно с ним что-то не так. К сожалению, я в слонах не очень-то разбираюсь. Если пихнуть его Ною…
-Бгат, я слышал, что у этого слона сквегный характер. Его привезли для цигка, только дгессиговщику не удалось найти общего языка с этим слоном. Сейчас в этом цигке есть слон, а дгессиговщика – нет!
-Нет, он только поливал его водой из хобота каждый газ, когда тот что-то тгебовал сделать! У нас, конечно, не холодно, только дгессиговщику надоело ходить все время мокгым и он сбежал. Кстати, этот слон пгодается только самовывозом, догадался почему?
-Слушай, я не знаю, что будет сложнее, уговорить Ноя купить этого слона, или доставить ему эту животину. Я собираюсь сделать и то, и другое! Я уж не знаю, на хрена Ною строить такую посудину и собирать на ней всех животных и птиц Земли. Плавучий зоопарк? Не похоже! Или у Ноя на старости лет шарики за ролики закатились, или он что-то знает! И, учитывая то, что он у Бога в любимчиках, как бы дело не шло к потопу!
-Бог хочет утопить всех, кроме Ноя?
-Абрам, я не знаю, чего хочет бог. А Ной хочет ковчег с животными и птицами – и он должен его получить! Он нам за это платит!
-Интегесно, зачем нам будут деньги, если мы все утонем? – Абрам почесал в затылке, — Изя, а может, лучше попытаться уговогить Ноя взять нас с собой на ковчег за то, что мы постгоим этот когабль?
-Ты меня пугаешь, Абрам. Ты снова думаешь, как гой. Ноя нельзя ни о чем просить! Ему нужен этот чертов слон. Пока мы будем строить ковчег, слон будет воспитывать Ноя. А тот – просить Бога, чтобы тот помог ему. Каждый занят тем, что у него лучше всего получается. Поэтому, сейчас ты садишься за чертежи, а я займусь сметой. Прежде, чем рисовать чертеж ковчега, прикинь мне эскиз ящика из металлических прутьев на колесах. Прутья должны быть то достаточно толстыми, чтобы их не мог сломать слон, и достаточно частыми, чтобы через них не выпадала морковь. А еще… — он быстро рассказывает Абраму то, что придумал. У того загораются глаза:
-Изя, ты голова! Это точно поможет!
-Если не поможет, будем думать еще! Теперь главное, чтобы Ной согласился купить слона, пока того не пустили на мясо! А судя по его цене сейчас, еще неделю без дрессировщика, и у нас в городе на рынке будет несколько тонн дешевого некошерного мяса!
Ной долго рассматривает смету. Как оказалось, дерево гофер лишь немного дороже кедра. Однако остальные статьи расходов очень большие. Особенно большая статья расходов по грузчикам. Их очень много, и едят они вдвое больше, чем столяры, а получают лишь немного меньше квалифицированных работников. Ной тут же выражает свое недовольство:
-Если только строительство ковчега мне обходится в такую сумму, то где мне брать деньги на животных?
Что ждет Троицк без марганцевого завода?
В Троицке уже несколько лет продолжается противостояние между людьми, поддерживающими строительство металлургического марганцевого завода и активистами. выступающими против него. Первые выступают за создание новых, современных и высокооплачиваемых рабочих мест. дающих уверенность работникам в завтрашнем дне. Вторые считают, что якобы этот завод смертельно опасен для всего города, при этом умышленно искажая факты о строительстве данного производства и завышая класс опасности и вид производимой на нем продукции.

Противники марганцевого завода в Троицке отрицают что они против промышленности и развития, предлагая восстановить старые существовавшие в советскую эпоху в городе заводы и фабрики. А их было много и почти все они прекратили свое существование. Также эти активисты предлагают развивать сельское хозяйство, называя Троицк чуть ли не сельхозпотенциалом. Конечно и восстановление разрушенные производств, и сельское хозяйство — это хорошо. Но осуществимо ли это на практике в сегодняшних условиях? И к чему приведет такая «погоня» за старым и нежелание нового?
К сожалению, в сегодняшних условиях старые советские заводы Троицка восстановить невозможно. За счет бюджета никто не будет восстанавливать тот же жиркомбинат или тот же молокозавод по причине совсем другой экономической системы. К сожалению, власти за государственные деньги уже ничего не строят. Эту функцию строительства заводов и экономического развития переложили на инвесторов. И вряд ли найдется кто-то из инвесторов, готовый в них вложиться. Троицк к сожалению очень непривлекателен для инвестиций, сами инвесторы предпочитают города-миллионники, особенно ближе к Москве. Да и от старых советских заводов в Троицке ничего почти не осталось, заново их строить уж точно никто не будет.
Что касается сельского хозяйства, о котором любят говорить противники марганцевого завода, то его никто нигде не спешит развивать. Троицк это еще и город, притом немаленький, а не село. А в Троицке, учитывая засушливый резко континентальный климат, оно очень затратно. И если марганцевый завод не построят. то это не значит что найдется инвестор, готовый вложиться в сельское хозяйство. И к тому же сейчас любителей этой отрасли мало, вся молодежь предпочитает работу на производствах, нежели на селе.
Можно сделать смелый вывод, что если в Троицке не построят марганцевый завод, и инвестор уйдет из города, то тут больше никогда и ничего не построят. Конечно во всех бедах жители грода любят обвинять местные и областные власти. Но одновременно ситуацию с марганцевым заводом стараются перехватить в свои руки. Вопрос^ зачем тогда обвинять властей что ничего в городе ни строится и не развивается, коль сами недовольны и блокируют попытки властей построить приличное и современное производство?

Строим бункер своими руками
А вам когда нибудь приходила в голову мысль о постройке собственного бункера? Мне лично да. Нет, без всякой этой паранойи про конец света и апокалипсис, а просто, для души, ведь было бы весьма прикольно обладать такой постройкой! Слава богу есть у меня товарищ, полностью разделяющий мою мечту. Собственно 20 мая мы и решили двигаться в этом направлении 😊

Собственно говоря купили участок 10 соток в 40 км от города. Разметили веревкой и колышками размеры котлована и начали копать вручную. Да, нанять экскаватор гораздо проще, но мы не ищем легких путей, нам интересна стройка своими руками.
Ездим на участок раз в неделю, поэтому строительство идет не быстро, зато мы возим много всякой дачной утвари, и благодаря этому каждое следующее пребывание на участке получается более комфортным.

Вы находитесь в древней Руси, если…
1) Случись вам совершить убийство, есть шанс банально откупиться. Согласно основному своду государства – «Русской правде» (принятому в 1016 году), в случае согласия родственников жертвы вы отдаёте им солидную сумму – 40 серебряных слитков (гривен). За любое ранение тоже можно заплатить – причём, если вы отрубите пострадавшему палец, денег уйдет куда меньше, нежели в компенсацию за «отсечение бороды и усов». Каким, блядь, образом получается столь ловко отсечь бороду с усами, непонятно – видимо, это насильственное бритьё: стой, сука, сейчас буду тебя брить. Дороже стоит смерть княжеского слуги – 80 гривен, и скидок тут не делают. А вот за убийство «смерда или холопа» (то есть, раба) следует отсчитать всего 5 гривен. Тяжкое телесное повреждение («увирье»), нанесённое свободному человеку – «усохнет рука или нога» или «лишение ока», оценивалось в 20 гривен.
Георгий просит вас никого в древней Руси не убивать. Пожалуйста, побудьте там хорошим человеком, вам жалко, что ли?
2) Вам как-то не особенно нравится имя Святополк. Ещё бы. Этому есть логичное объяснение — оно ассоциируется с сыном великого князя Владимира (который «Красно Солнышко»), получившего прозвище «Окаянный» (хотя лучше бы парня прозвали «Пидорас»).
Собственно, именовали его так оправданно. В борьбе за власть в 1015-1019 годах кандидат на трон проявил себя в стиле сериала «Игра престолов» (только без голых баб(: замочил трёх своих единокровных братьев – Бориса, Глеба, и Святослава. Об этом гласит «Повесть временных лет», и хотя поздние историки предложили вариант, что Святополк пал жертвой «чёрного пиара», древние летописцы хуесосят князя ужаснейше. Узурпатора сверг уцелевший брат – Ярослав, и Святополк съебался в Польшу, призвав на помощь своего тестя – польского короля. Заняв Киев, «Окаянный» разосрался с поляками, и те ушли. Ярослав, возрадовавшись, разгромил армию Святополка. Враг скрылся в степи, у печенегов, где сошёл с ума, и вдобавок подлого братоубийцу разбил паралич – «Окаянного» закопали, как собаку. В общем, пидорас и есть.
3) Значительную роль в вашей жизни играет мёд – по целому ряду причин. В славянских племенах после крещения Руси считалось: дьявол ест всё, кроме мёда, и поэтому плошку с пчелиным продуктом ставили на стол в церковные праздники. Лакомство являлось обязательным элементом поминок – чтобы в загробной жизни покойника в дальнейшем всё было как сахар: намазанный мёдом блин клали в изголовье к усопшему. Пиздец какой-то, если честно. Готовился охуительно сладкий медовый алкогольный напиток, каковой на языческих празднествах вкушали для чувства единения с богами. Делали его своеобразно – зарывали в дубовых бочках в землю на 5 или даже 20 (!) лет. Был он настолько крепок, что мог валить с ног с первой чарки. Водку в древней Руси тогда не знали, виноградное вино пила только знать, и то сугубо греческое. Пиво имелось в Новгороде и Пскове, но варили тоже на меду. Жизнь ваша, несомненно, будет ебучей сладостью.
4) Вы верите, что грозу на землю посылает бог Перун, искренне почитаете парня без трусов на белом коне – Ярило, поскольку он обеспечивает сохранность весенних посевов на пашне. Вы уважительно кланяетесь солнцу, ибо это – Дажьбог, чей свет помогает всходить пшенице и ржи. Существует даже специальный покровитель скота – бог Велес, которому принято оставлять несколько колосков злаков на пашне в знак поклонения. Иначе пиздец. Изображения богов окропляют свежей кровью, принося им в жертву ягнят, телят и поросят (да, вы бы сами их ели с удовольствием, да надо богам). Есть некоторые мнения, что в честь богов ранее убивали и людей, однако сие только догадки, и документального подтверждения им нет. Некоторые древнерусские языческие традиции сохранились и в современной России – например, сжигание соломенного чучела на масленицу. В 988 году Киевскую Русь крестят, статуи богов кидают в Днепр, хотя в регионах старые верования сохраняются до XIII века. Регионы не волнует.
5) Как основную валюту вы предпочитаете гривну, но это слишком большой кусок серебра, чтобы расплачиваться им за всё – ну как сейчас попытаться на банкноту в 500 евро купить в магазине коробок спичек. Гривна равнялась 20 ногатам, 25 кунам, 50 резанам, и 150 векшам. Ногата стала монетой лишь в XII веке, а до этого так называли шкуру соболя, каковую также использовали в денежных расчётах. Куна происходит от слова «куница». В Новгороде можно было оплатить товар (скажем, платье, сапоги или даже стадо коров) шкурами пушных зверей, ибо мех ценился всегда – на Руси-то ох как холодно. Векша — самая мелкая монета, весом всего 0,33 грамма. В своё время, её заменителем считалась шкурка белки. Вот представьте сейчас – идёте вы в супермаркет, обвешанный мехами соболя, а на сдачу вам выдают шкуры куницы и белки. И спрашивают на кассе – «простите, не могу найти, у вас случайно пара белочек в кошельке не завалялась?». Рубль появился значительно позже – в XIII веке, когда гривну начали разрубать на четыре части, а копейка – и вовсе в 1420 году: в независимом тогда Новгороде стали чеканить собственную «денежку» с изображением всадника с копьём.
6) К вам в город периодически сажают какую-то суку «на кормление». Это достаточно древняя традиция. Ещё со времён правления князя Ярослава Мудрого (того самого, победившего Святополка Окаянного), и сборщики штрафов – «виры», и строители городов получали в оплату своего труда продукты. Делалось это так – после договора о строительстве здания, жители города хорошо кормят вас и вашу семью во время самого строительства, и ещё один-два года после завершения работ. Впоследствии, великий князь Киева присылал в регионы наместника, волостеля (представителя своей власти), и служилых людей – тоже, без всякой оплаты их деятельности, возлагая обязанности «кормления» на конкретный город или волость. Мудачьё экономическое. После этого мы ещё удивляемся, что крупные чиновники берут взятки – они просто, даже получая зарплату, не могут отойти от древнерусской традиции.
7) Каждый год вам приходится прыгать через «купальский костёр». Это вещь обязательная на праздник Ивана Купала, посвящённого летнему солнцестоянию. Пламя разжигали с раннего утра, и поддерживали до поздней ночи. Чаще всего, через огонь приходилось перескакивать девушкам – полагали, что костёр очистит от болезней, завистников, «нечестивых заговоров», порчи и сглаза. Даму, не перепрыгнувшую через костёр, считали ведьмой, обливали водой и хлестали крапивой. Кстати, ведьмой признавалась любая девушка, не пришедшая к костру. А женихи древней Руси (уже после крещения) требовали, дабы их невеста также перенеслась через огонь – если подозреваемая в блядстве потеряла девственность до свадьбы, её охватит пламя. Что интересно, от самих женихов таких огненных изысков никто не требовал, у них, мол, если и было блядство, то исключительно лёгкое и пиздатое — и в этом полное говно несправедливость древних обычаев.
8) Вы уверены – жители Владимира, Чернигова, Рязани, Пскова и Новгорода являются иностранцами. Ведь они же находятся в других государствах! Небось им и визу получать надо. Скорее всего, в этом случае вы живёте на Руси после 1132 года – эту дату признают как начало феодальной раздробленности: титул великого князя Киева стал сугубо номинальным, а уйма князей маленьких и больших городов дрались и воевали друг с другом. Скажем, за одно Галицко-Волынское княжество война между всеми южнорусскими государями шла 40 лет, и перепиздили кучу народу (победил Даниил Волынский). К началу монгольского нашествия число независимых княжеств на месте древней Руси достигало 50, а ещё через сто лет (уже после войны с монголами) – аж 250! Сражения стояли жестокие, но никому не пришло в голову — русские уничтожают русских, и княжества тем самым слабеют: а это полная хуйня. Исходя из упомянутых сведений, жить мы вам в это время не советуем. Если вдруг случайно попадёте на Русь периода раздробленности – срочно перемещайтесь обратно.
Источник: pikabu.ru
Книга: Отрицаю тебя, Йотенгейм!
Отрицаю тебя, Йотенгейм!
Продолжение этой повести, Уважаемый Читатель, получилось гораздо короче задуманного, и вряд ли в полной мере удовлетворит читательское любопытство, но автор в своё оправдание может сказать, что, описывая тюрьму, слишком он сжился с ней, и пора, пора уже ему на волю: есть вещи более достойные, чем тюрьма!
Сдержанное нетерпение, готовое перейти в безудержную радость — вот что чувствует арестант, которого заказали с вещами, если существует хотя бы теоретическая возможность освобождения. Своеобразие состояния заключается и в том, что твоё положение на тюрьме может, наоборот, ухудшиться, и опасение съехать на общак так же сильно, как надежда на лучшее. Стараешься угадать, что тебя ждёт, отслеживаешь каждое движение. Арестанту важно знать, что его ждёт, чтобы заблаговременно запастись терпением и не гореть слишком ярко. От команды за тормозами до выхода из хаты промежуток небольшой, едва успеть собрать вещи, но их не много, и вот ты выходишь с грязным баулом в руках на продол.
На этот раз вертухай изъял предметы, принадлежащие тюрьме. Из таковых оказались только шлемка и весло. Действие означало, что я покидаю Бутырку. Общество, собравшееся на сборке, человек пятнадцать, однозначно подтвердило, что едем на больницу. За исключением нескольких совершенно измождённых арестантов и одного на костылях с простреленной ногой, остальные не сильно отличались от общей арестантской массы, а несколько человек вовсе на больных похожи не были. Радость сменилась тревогой, когда выяснилось, что выехать на Матросску — ещё не значит на неё попасть: могут вернуть назад, и, говорят, кого-то неминуемо это ждёт. Под знаком этой новости прошло ожидание на сборке, погрузка в автозэк и дорога от Новослободской до Яузы. У простреленного парня отобрали костыли (потому что находятся на балансе Бутырки), и на тюремном дворе Матросской Тишины его уже вели под руки арестанты. Знакомые места. Вход со двора, за стойкой дежурный принимает документы на поступивших — т.е. та инстанция, которую миновал я полгода назад, когда меня привели на тюрьму с чёрного хода. Потом маленькая грязнющая сборка с деревянной дверью, через которую по одному вызывают к врачу. В двери замочная скважина, через которую желающие по очереди изучают врачебный кабинет, где два голоса, мужской и женский, минут сорок обмениваются комплиментами, излучая жизнерадостность, резко контрастирующую с состоянием нашим. В ярком электрическом свете я разглядел молодого человека в военной форме и наброшенном на плечи белом халате и молодую ярко накрашенную женщину, тоже в белом, в которой признал ту, которая принимала меня в сие заведение.
Ладно, Серёжа, потом поговорим, мне надо работать, — обаятельно сказала дама и, обращаясь то ли к Серёже, то ли к себе, с симпатией добавила: «Знает! Ведь знает, насколько он мужественный, симпатичный. Настоящий мужчина. И так элегантно делает вид, что сам этого не замечает!»
Серёжа расцвёл, как с тринадцатой зарплаты, и влюблённо покинул кабинет. Настала наша очередь. Парнишка с землистым лицом первым вернулся из яркого кабинета в тусклую сборку и растерянно пробормотал: «Не верит. Говорит, если бы болел, то ходить бы не смог. Говорит, врачи могли ошибиться — может, это и не аппендицит…»
Парня с простреленной ногой привели почти в шоке. — «Что, как?» — подступились мы. — «Вернули. Поеду на Бутырку. В медкарточке написано „язва желудка“, а это не болезнь. Я говорю, у меня нога прострелена, — сквозь бинты, в самом деле, проступало большое кровяное пятно, — а она мне: „Ничего не знаю, написано „язва“, езжай назад, продолжай лечиться голоданием“. Я из голодовочной хаты».
Вызвали меня. Полистав карточку, модная женщина с сомнением поинтересовалась:
Ну, а Вам, Павлов, что нужно?
Вы что — больны? Что у Вас? Грыжа? Какая грыжа? Паховая? Ах, позвонковая! Это ерунда. Спина болит? У меня тоже болит. Голова? Рука? Нога? У меня тоже нога. А чего скособочился. Ну-ка выпрямись.
Все вы тут не можете, а там все можете. Ну-ка, проверим рефлексы.
Для проверки рефлексов врач взяла в руки с длинными кровавого цвета ногтями огромную киянку, каковой на проверке со звоном простукивают стены, тормоза, решку и шконки. Пару раз ударив по рукам, врач примостилась ударить по спине.
По спине не надо.
Хорошо, не буду. Рефлексы в норме. На Бутырку.
Так мы, почти все, оказались опять в автозэке. Простреленному снова выдали костыли. Перед выходом на улицу по коридору прошёл Руль.
Павлов, я тебя помню! Как дела? Чего такой смурной? На тюрьму пришёл — весёлый был, а сейчас что случилось? — Руля мой вид явно огорчил. — Куда едешь? На Бутырку? Ну, давай, теперь уже не увидимся.
У мусорской стойки проверили личные данные, как всегда присвистнув при прочтении обвинения («не х.. себе!»). Рядом мусор с расстановкой бил кулаком в живот какого-то арестанта, который только хрипел и сипел при этом. Такая картина в моем присутствии вызвала лёгкое смущение на лице Руля. Часть мусоров была явно навеселе. Матросская Тишина жила обычной своей незатейливой жизнью, а многоэтажный корпус больницы из светлого кирпича, уходящий в небо, оказался недосягаем. Снова сознание заполнила мысль: что будет на Бутырке. Сейчас можно с лёгкостью провалиться в яму общака, где тебя позабудут на долгие годы. Возможно такое? К сожалению, да. Ах, господа, какая безнадёга!
В знакомой бутырской сборке уже не пугало ничто, ни средневековый вонючий полумрак, ни грязь, ни крысы, ни ошеломлённые новобранцы. Но страшно не хотелось на общак. Прошли по одному через каморку врача, примыкающую к сборке. Отношение как к вновь прибывшему, а значит, видимо, будет общак. В этом неприятном предположении прошла ночь, после чего сомнений не осталось, тем более что явно больных увели ещё вчера, а потому путешествие с вертухаем по этажам и переходам было ознаменовано одним из самых неприятных чувств — ожиданием худшего. Группа арестантов молча идёт за провожатым, выстраивается в начале коридора на общаке, и каждый с невесомым сердцем ожидает, что назовут его фамилию, ловя первые звуки очередного слова, чтобы успеть насладиться пониманием, что произносимая фамилия — не твоя. Наверно, так себя чувствуют в шеренге те, часть которых будет немедленно расстреляна. Путешествие кажется долгим, от каждой двери общака веет адом, и когда вдруг видишь на очередном корпусе рельефные, когда-то вызывавшие ужас, двери, — камень падает с души, становится легко и радостно. До больничного коридора доходят только двое, и в их числе я. На сей раз моя хата оказалась рядом с предыдущей. Внутри было семь шконок и семь человек. При этом не холодно, есть лишний матрас. Желать лучшего (кроме свободы) на Бутырке грешно и непростительно. Как само собой разумеется, я занял место сбоку у решки, потеснив молодёжь, и стал обдумывать положение. Если с утра не отправят на общий, значит, все нормально. Косуле надо сделать козью морду, но не зарываться. А пока покурить и спать.
Бутырский проверяющий отличается особой гордостью. Эта сволочь считает себя представителем законности, и не исключено, что делает это искренно. А значит, встречать его нужно стоя с руками за спину. Что и произошло на следующее утро. С вещами не заказали. Напротив, перед прогулкой на продоле какая-то женщина спросила: «Что, Павлов, вернули с Матросски? Ладно, мы ещё посмотрим, кто кого…» Из чего следовало, что Бутырская медсанчасть меня не оставит в беде, и победа будет за нами.
Несколько дней прошли в ожидании дальнейших движений. План поведения был, ключевые моменты определены, поэтому в промежутках между появлениями Косули можно было не напрягаться; следак же не появлялся. В хате на следственные действия явно никто не напирал, и можно было отдохнуть (хотя, конечно, где ж так отдыхали). Никакого лечения не проводилось; основной массе по-прежнему кололи пенициллин и, нагоняя статистику выздоровевших (а у всех один и тот же диагноз — пневмония), отправляли по хатам. Время побежало быстро, и не успел я как следует освоиться в хате, как оказался на сборке среди судовых, чему предшествовала пьеса в театре одного актёра, где Косуля был небезучастным зрителем. Результатом моей игры оказалось торжественное («блядью буду») обещание Косули отправить повторно на Матросску и привести второго адвоката.
На судовой сборке все по-прежнему, только теперь я знаю, что и судовой может не гнать. Ещё не уехали с Бутырки, а хочется скорее в камеру, чтобы закончился этот неуютный день. Постречал Зазу, смотрящего хаты 94. Тот не замечал меня в упор, а когда я обратился к нему, спокойно заговорил со мной, будто расстались вчера. За то, за се, как дела, кто сейчас в какой хате. Заза на спецу (ясное дело, после кипежа хату раскидали). На суды ездит второй год, и конца не видно. Давно настроился сидеть, сколько статья позволяет, т.е. шесть лет. За спиной уже два. Заза спокоен, сдержан и доброжелателен: «Как ты сейчас? На больнице?» — «Да, все в порядке» — отвечаю. — «Ну и хорошо. А то тогда ты был… — Заза дипломатично замолкает. — С суда приедешь, отпиши, рад буду ответить — хата три семь шесть». То есть, Заза и не допускает, что меня освободят.
Автозэк, ранее вызывавший отвращение, теперь как родной, но перчатки стараюсь снимать только чтобы закурить, с тем чтобы по приезде их постирать. В Тверском суде сталкиваюсь с необычно вежливым отношением. Мусора значительно поглядывают на меня, будто оповещены отдельно. Опять окна в московский двор и здесь же — в боксик, в котором оказываюсь вдвоём с общительным и уважительным армянином. Вскоре с удивлением обнаруживаю, что разговор естественным образом подкатился к вопросу о том, что есть кто-то, кому выгодно, чтобы я сидел в тюрьме, и как будто я знаю, кому. — «Кому это выгодно?!» — звучит вопрос, и я как просыпаюсь:
Армянин усмехается и замолкает, после чего его переводят в соседний боксик, и слышно, как он успешно договаривается с мусорами, что они ему принесут свежих беляшей; потом к нему приходит женщина-адвокат, приносит что-то явно запрещённое, но мусора ходят по струнке, угодливо спрашивая, не захочет ли клиент чего-нибудь ещё, а тётя-адвокат журит армянина, что тот не хочет заплатить ещё четыре тысячи баксов, и укоризненно восклицает: «У Вас четыре трупа, а Вы жмётесь!» Приходит и Косуля. Рожу переделал из Бабы Яги в Колобка, руки трясутся, спрашивает, все ли будет, как договорились, а то сам Хметь, т.е. зам Генерального по надзору приехал. Сегодня, по сценарию, надо отказаться от суда, в связи с тем, что собраны не все надлежащие справки. — «Держись» — говорит Косуля. — «Уж и не знаю» — отвечаю я, повергая адвоката в шок.
«Идти не останавливаясь, голову не поднимать, руки за спину, по сторонам не смотреть, ни с кем не разговаривать, шаг в сторону расценивается как попытка к бегству, стреляем без предупреждения» — с таким напутствием повели меня мусора без наручников в зал суда, в котором указали на лавочку и разрешили сидеть свободно. Зал большой, светлый и чистый; вид и запах моей одежды здесь явно не гармонировал с большим российским флагом. Белокурая женщина-судья почему-то не в мантии. За отдельным столиком сидит Хметь, с интересом уставившийся на меня. У наших генпрокуроров и их замов, по традиции, рожи как жопы, а этот ничего, даже на человека немного похож. А может, сделать подарок Косуле? — заявить, что хочу, чтобы рассмотрение состоялось. Тогда не видать больницы как своих ушей. И кому получится подарок?
Происшедшее в дальнейшем могло вызвать слезы умиления. Мягко и человечно судья открыла заседание, сочувственно сообщила, что поступила просьба адвоката заседание отменить и, ни много ни мало, поинтересовались, не против ли я присутствия заместителя Генерального прокурора по надзору. Потом выступил правозащитник и чуть из кожи не вылез, доказывая нецелесообразность и несвоевременность заседания. Как протрезвевший муж после пьянки просит прощения у жены, Косуля восклицал белокурой даме: «Ваша честь! Я Вас очень прошу удовлетворить мою просьбу!» Её честь просьбу удовлетворила, и меня отвели в боксик. Явно никому, кроме меня, это заседание не было нужно. В боксике тоже все было по-прежнему. То есть, прежде чем приехал автозэк, я наслушался речей осатаневших от надежды арестантов, насмотрелся в тусклом свете на надписи на стенах, замёрз и затосковал по хате. В углу сидел парень и глупо улыбался. — «Как успехи?» — поинтересовался я. — «Какие успехи! Восемнадцать впиздячили». — «За что?» — «Полкило героина».
Автозэк приехал поздно, когда все затихло, а мусора приняли на грудь и с аппетитом закусывали на ходу колбаской.
И в автозэке все было по-прежнему, т.е. совершенно знакомо, как будто я тысячу лет арестант и езжу по судам со времён неизвестных. Как будто все это было, и можно даже понять, что будет дальше. Многим известно странное чувство, что происходящее в какой-то момент уже было. Бывает редко и длится недолго. Однажды, когда я первый раз был в Германии и ехал на машине, меня посетило такое чувство, но не исчезло, а стало медленно нарастать, и вдруг я понял, что знаю, помню, что увижу за поворотом, за которым пришлось остановиться, чтобы избавиться от страха: все оказалось именно так. На этот раз я постарался избавиться от наваждения сразу: надеяться лучше, чем знать худшее. А что-то все же подсказывало, что надеяться стоит, только не на чудо, а на время, не на закон, а на себя. Ну, и, конечно, немного бы удачи…
На Бутырке всех запустили в малюсенькую сборку, стоять пришлось вплотную, но, странное дело, всем было классно. Все задымили, заговорили и ощутили вполне конкретное арестантское братство, в котором меж зелёных стен без окон слились беды, надежды и радости каторжан. Армянин, что был в суде со мной в боксике, густо источал запах коньяка и раздавал направо и налево через головы пачки сигарет «Данхил», а мне, протягивая пачку, сказал: «Ты извини, я хотел с тобой выпить, а мент побоялся, сказал: пей с другими, с кем хочешь, а с этим нельзя. Извини! Пиши мне! Я в хате три семь пять на спецу. А то скучно!» Надо видеть лица судовых на этой сборке. Утром они были одинаковые, а сейчас принадлежали разным людям, и разговоры гудят в апогее, опять в вагоне поезда собрались друзья. Через несколько часов начали поднимать в хаты. Сознание того, что тебя вернут на больничку, так успокаивает, что испытываешь тихое тюремное счастье. В камере про меня забыли, место заняли. — «Что-то вы, господа, попутали» — добродушно посетовал я, водворяясь на своей шконке. — «А мы думали, ты не вернёшься». — «Расчувствовались» — объяснил я и положил на дубок пачку «Данхила», от вида которой у всех захватило дух.
Наутро хату разгрузили, так, что две шконки остались не заняты. Началась лафа. В соседних хатах по два человека на шконку, а то и больше. Пришёл Косуля, поинтересовался, не тесно ли в камере, намекая на свою причастность к вопросу, на что получил ответ: нет, в камере не тесно, на тюрьме — тесно. — «Ну, знаешь, я стараюсь…» — «Это заметно» — двусмысленно ответил я и погрузился в нервное размышление, не отвечая на вопросы. Косуля тоже занервничал и ушёл.
Через пару дней вызвали на продол. Женщина, что говорила «ещё посмотрим», спешно распоряжалась, торопя вертухаев; прозвучало слово «спецэтап», и не успел я глазом моргнуть, как завели на сборку, тут же вывели и, минуя процедуру идентификации личности на выходе, спешно усадили без всяких наручников в обыкновенный УАЗ без решёток и поехали. Без оружия, без дубинки к нам подсел огромный мент с ручищами как гири и предупредил: «Только без шуток, господа!» Но господа шутить настроены не были, и было их всего трое: я и двое немощных, совершенно жёлтых от гепатита арестантов, которые как дистрофики медленно и радостно переговаривались друг с другом. УАЗ выехал через какой-то задний двор, а вовсе не там, куда вползает в подворотню автозэк, и двинулся сквозь хмурое московское утро. Тут я увидел жизнь, обычную и недоступную. Стоим на светофоре, мимо идут люди, они не обращают на нас внимания; наверно, они удивились бы, если узнали, кого и куда везут в этой машине, на их лицах заботы, и я готов утверждать, что знаю, о чем думает каждый из них. Жадно вглядываюсь в лица, в облик города; нет, это уже не мой город, не тот, что был раньше. Это — щемящее воплощение прошлого, в которое не вернуться. Я знаю здесь каждую улицу, здесь живут или работают знакомые, Москва проплывает мимо глаз серой лентой, и я знаю, что безумно хочу ступить на её тротуары, чтобы немедленно расстаться с ней навсегда, нам тесно вдвоём на земле.
Однажды, когда мои самые близкие люди были уже за границей, а я ещё нет, я прощался с Москвой, не зная о разлуке, но предчувствуя её. Тот день был описан в письме, которое вспомнилось вдруг до последнего слова. Из урчащего нутра ментовского уазика письмо казалось наивным, возвышенным и притягательным как свобода. А с письмом припомнился и весь день, описанный в нем.
ПИСЬМО
Гимнастика начинается с исходного положения. Есть таковое и в самочувствии. Только я забыл — какое оно. Я забыл ощущение себя, не чувствую своего лица, в прямом смысле. Но помню, что владеть мимикой — значит владеть собой. Уметь расслабить лицо и насладиться этим состоянием — значит прийти в исходное положение. С ясными мыслями, ясным взглядом и покоем в душе.
Но сейчас самочувствие оставляет желать лучшего; после напряжённой недели во всем разлад и размытость. Поэтому открываю шторы, чтобы увидеть погоду.
За окном солнце! Ещё неясно понимая даже это, часа два брожу по комнатам, мимоходом приводя их в порядок, одновременно пытаясь привести в порядок внутренний мир. Если с комнатами все удаётся, то со вторым гораздо хуже и, как бы припоминая, что это необходимо, — одеваюсь и выхожу на улицу. Так выходят из больницы после тяжёлой болезни. Первые шаги делаются с опаской: а вдруг что-нибудь заболит.
Однако, это золотая осень. Чистое высокое голубое небо, листва цвета лимона и меди. На ногах удобные кроссовки. Первые шаги доставляют удовольствие. Это уже что-то. Значит, надо идти. Идти под солнцем по земле. Вижу себя со стороны и сверху. Не раздвоение ли это…
День сегодня чем-то необычен. Наверно, много солнечного света.
Душа, определённо, не на месте. Одолевает чувство ответственности, мысли тяготеют к работе. Отодвигаю все это, как штору, в сторону и пытаюсь освободиться от груза размышлений. Свободная мысль достигает высшего результата, но об этом забываешь и думаешь, в повседневности, что называется, на заданную тему…
Куда идти? Ноги сами ведут. Уже понятно, что пойду по местам моего детства. Они не далеко. Медленно проплывает мимо монументальное, залитое светом здание МГУ. А я смотрю, через собственные глаза, как через окна, и хочу чтобы не было стекла. Я не ощущаю мир. Но знаю, что с этим можно бороться. Вечное как мир лекарство — ходьба. Маятник. Циклический принцип движения во всем живом. Если маятник замедляется, надо его раскачивать. Вот спортплощадка, где в юности я играл, и, помнится, неплохо, с приятелями в футбол. По-разному сложилась их судьба. Наверно, я больше не хотел бы их увидеть. Потому что футбол — это лучшее, что у нас было. Пусть знакомые места напоминают лишь о хорошем, потому что есть и не лучшие воспоминания. Отодвигаю их, как вторую штору, и иду под солнцем по земле.
Первый привал делаю через пять километров (а врачи утверждали, что я теперь не пройду и трети того!). Старое шоссе, оставшееся только на старых картах, ведёт через мост куда-то в бурьян к Поклонной горе. Когда мне было пять лет, мы приезжали сюда с отцом на грузовике ставить машину в гараж. Где-то здесь была автобаза. От неожиданного воспоминания захватывает дух — вспомнил! Это было здесь, больше чем тридцать лет назад: вечереет, в кабине грузовика рядом с отцом я зачарованно и бессознательно гляжу на сумерки и не верю сам себе, я ли это…
Может, здесь и закончить путешествие, съездить в гости. Но к кому. Нет, сегодня я буду лечиться одиночеством. Что за странная дорога… Какой-то заброшенный край. Всю жизнь я не соизмерял масштаба и думал, что здесь ничего нет. Слева тысячи раз проезжал на троллейбусе, прямо и поперёк — на электричках и поездах, сзади — улица, где жил несколько десятилетий; все, казалось, совершенно знакомо, но здесь какие-то склады, заброшенные и заросшие строительные объекты, между ними петляет грунтовая дорога, которая, кажется, ведёт в никуда. На ржавых воротах краской от руки написано: улица Братьев Фонченко. Охватывает ощущение нереальности, будто шагнул в другое измерение и сразу заблудился. Но слева возносится в небо стела с беснующимися чертями на Поклонной горе, и я иду в сторону Потылихи. На Поклонной горе мы играли в детстве, когда та ещё не была срыта бульдозерами и оставалась, видимо, такой, какой её видел Наполеон. На горе росли дикие травы, и игры на ней были отмечены ощущением бесконечности пространства, времени и жизни. Когда это было… Пронзительно светит солнце. Прохладно. Стою на высоком берегу реки Сетунь. Осенняя листва… Хорошо, что кругом никого. На ветру слезы кажутся холодными и чужими. Но все-таки сегодня много солнца.
Ещё полчаса пути по очень знакомым местам. Вот заросшее деревьями (как быстро они растут!) пространство, где стоял дом, в котором я рос. Стою, прислонившись к дереву, бывшему когда-то в нашем палисаднике, и вспоминаю все лучшее, что было в детстве.
Выхожу из родного района, выхожу из прошлого, и его уже нет, но настоящее ещё не настало. Приходит и настоящее. Теперь я вижу людей. Иду к Окружному мосту и по нему к Новодевичьему монастырю. Навстречу идут два подростка, по лицам понятно, что говорят о чем-то грязном. Жаль. Днём раньше ехал на машине за автобусом, в котором у заднего стекла разговаривали двое мальчишек, и не хотелось обгонять автобус — столько жизнелюбия и увлечённой мечты было на их лицах, они оживлённо обсуждали что-то, не замечая, что я на них смотрю.
Солнце делает людей лучше. Вглядываюсь в лица пассажиров остановившегося троллейбуса. Они разные, но как бы осенённые светом. Девушка-водитель смотрит то ли в зеркало, то ли на дорогу и улыбается.
А я прошёл уже десять километров. На мосту стоять страшно. В детстве было ещё страшнее. Однажды я прошёл по дугам моста, на что решались немногие. А не пройти ли сейчас, — мелькнула озорная мысль. Но, поскольку ты незримо рядом, доставить тебе беспокойство не решаюсь.
Все время солнце. Уже нет стекла. Я чувствую мир. Стены Новодевичьего монастыря дышат временем, историей. Я радуюсь, что чувствую, что иду. Обгоняю человека с тростью. У него неровный тяжёлый шаг инвалида. Пусть большая часть моей жизни и была напрасна, но я иду! Я ещё поборюсь и поживу. Может быть, вторая часть жизни станет большей.
Меня не покидает чувство любви. Становится ясно, что истина в ней, и все зависит от нас. Жизнь определяется необратимыми поступками, и за нами право выбора. Нелегко, страшно и прекрасно это право. На улицах так мало людей, что опять появляется чувство нереальности. В пустом городе живут мои шаги и мои мысли. Нет, не пустой город. Он замечателен. На Остоженке останавливаюсь перед большой стройкой. На щите написано: «Строительство дома оперного искусства». Неужели действительно страна проснулась. Обдумав этот факт, с удовольствием заглядываю в маленький магазинчик. Да, это не совдеп.
Кропоткинский бульвар. Пройдено 17 километров. Сажусь на лавочку отдыхать (хотя и не устал!), смотрю на прохожих. Всего несколько лет назад на Тверской жгли костры, и звериные лица в отсветах пламени виделись предвестьем погромов и гражданской войны, но чума прошла стороной. Мимо идут люди и людишки. Богатые, состоятельные, победнее. Нищих не видно. (Правда, в переходе под Садовым кольцом я дал просящей бабушке денежку). Интересно смотреть на лица, это увлекает, тем более что я по ним без труда читаю даже то, что они хотели бы скрыть. Наверно, я выздоравливаю. Неизвестно, как долго может длиться удовольствие, но место для меня невезучее. Ещё семнадцать лет назад на этом бульваре молодого экзальтированного, насквозь противоречивого молодого человека в моем лице шокировала экзотическая девушка в высоком цилиндре вопросом: «Молодой человек, не могли бы Вы меня накормить?» Теперь же, сделав выбор из всех сидящих на лавочках, твёрдой походкой ко мне направляются две комичные девицы панковатого вида и задают мне, приблизившись неприлично близко, вопрос: «Молодой человек, не могли бы Вы нас выручить на две тысячи рублей?» При этом они вихляются на манер известного булгаковского персонажа.
Итак, я снова на грешной земле. Привал мой окончен, иду по бульвару к Арбату, а вослед мне летят изысканные оскорбления и ругательства. Но они меня не касаются: я сегодня возвысился до исходного положения (в связи с чем сказанное девицам звучало кратко, ёмко и выразительно).
На Арбате масса народу, фотографы с одетыми в тёплое обезьянками. Перед художником-портретистом сидит женщина и спрашивает подвыпившего мужа: мол, как она там, на портрете? Тот заглядывает за мольберт и экспрессивно отвечает: «Да ты там гораздо лучше, чем есть!» И размахивает руками: «Да! Точно, лучше!» — после чего смачно плюёт, поворотив рыло, в мою сторону. Виртуозно уворачиваюсь и делаю вывод, что хождение в народ пора прекратить. Надо свернуть в переулки.
По Плющихе и далее к метро «Спортивная» иду быстро, получая ровное удовольствие от нагрузки, прямо как в юности! В сумерках иду мимо низких окон, и в них мелькают цветные картинки чужой жизни.
Вот я и дома. На автоответчике твой грустный голос сообщает, что ты хочешь говорить со мной. Сегодня мы обязательно созвонимся. И скоро обязательно увидимся. Собственно, мы не расставались.
Меня манят чистые листы бумаги. С удовольствием пишу письмо. Все будет хорошо. Я тебя люблю. Сейчас буду звонить.
(P.S. Я чувствую своё лицо!)
Москва, 13 октября 1996 года.
Трудно сказать, где была реальность, здесь, где я прятал нос от кашляющих гепатитчиков; за окном ли, где на лицах прохожих были ознаменованы заботы; в письме; или там, на дорогах Европы. Возможно, реальность там, где я. Но где я?
Зря философствуешь, ты на Матросской Тишине, на той же сборке, где через дверь сидит в кабинете все та же тюремная красавица с красными ногтями. Гепатитчиков оприходовали и отправили лечиться. Я же судорожно размышлял, какие приведу аргументы, так как, по результатам предыдущего приезда, выходило, что ничем я не болен: сознания не теряю, ходить, плохо, но могу, не умираю — какие ещё могут признаки? Голова? Нога? Рука? Спина? Все это, как женщина уже объяснила, и у неё есть, и даже, если не врёт, тоже болит. «Что сказать?» — думал я в тревоге, слушая то тишину, то арестантов, то шум на продоле, от которого все насторожённо затихают, и шагнул по вызову в кабинет, решительно не зная, как себя вести.
Так. Павлов. На что жалуетесь, — бесстрастно поинтересовалась врач, и я начал неуверенно исповедываться, робко излагая симптомы, буквально стыдясь того, что не калека, а вот припёрся на больницу. На лице женщины появилось характерное выражение непреклонной брезгливости, и на губах явственно обозначились слова «на Бутырку», но дверь с коридора открылась, зашла какая-то женщина и заговорила о пустяках, мимоходом заметив: «Павлов — от Сергей Иваныча». И ушла.
Так, говорите, грыжа? — как ни в чем не бывало, продолжила врач. — Спина болит? Так. Сильно болит? Что, даже выпрямиться не можете? Нога? Рука? Как так онемела? Да Вы что, острая боль?! Голова? Полгода болит? Что же Вы к врачу не обращались? Это же серьёзно!»
Где ж обращался! — здесь бы было написано.
Устыдившись того, что не написано, я замолчал.
Так Вас надо в хирургию.
Нет, нет, — испугался я, — не до такой степени.
Ладно, идите на сборку, мы Вас позовём.
«Ап!! И тигры у ног моих сели!» С каким вожделением я ждал этой минуты, и она наступила. Пришёл вертухай и с гуманным выражением лица повёл меня подземным переходом на больницу. Боже мой, какое счастье, какая радость! Как легка и замечательна жизнь! Да, бывают в ней огорченья, но что они против такой удачи. Мне может позавидовать любой арестант. Вон там, слева, забарабанили в тормоза, вертухай их раскрыл, и на продол вышел некто совершенно голый. — «Хорошенькое дело, — сказал вертухай, в раздумье глядя на такое явление. Вышедший молчал и почему-то глумливо улыбался. Под ноги ему на продол кто-то вымел веником трусы. Такая вот тут стоит матросская тишина.
Но вот мы на больнице. Возносимся на седьмой (черт его знает, память уже изменяет, может и на пятый) этаж, где расположено — ах как сладко звучит это название! — второе терапевтическое отделение. Видимо, похожие чувства испытывают все, кому посчастливилось попасть на больницу, что видно всегда по лицам вновь прибывших: они торжествуют. И когда я оказался на этаже (естественно, пешком) в светлом коридоре с дверями по одну сторону и окнами в город по другую, я понял, что теперь точно выйду из тюрьмы — вопрос времени; но не лет, а месяцев; так мне казалось. Наконец-то Косуля не обманул, а значит, проиграл. Пока в замке кряхтел ключ вертухая, думалось о том, что с этой минуты начинается новый этап тюремной жизни, вдруг захотелось убрать руки из-за спины, сказать вертухаю «пока», не спеша спуститься по лестнице на первый этаж, выйти в город и пойти домой. Даже мелькнуло опасение, что нет денег на метро. Желание было настолько простым, без какой-либо экзальтации, что потребовалось несколько секунд напряжённого размышления о том, почему этого сделать нельзя. Шагнул в камеру. Довольно странное сочетание слов — больничная камера, не правда ли? Но так оно и было. Камера была большая, так называемая общая на больнице, по стенам уставленная двухэтажными кроватями, а в середине кроватями одинарными, слева дальняк, как обычно, отгороженный занавеской из простыней, а в данном случае ещё невысокой стенкой и пустой кроватью. Народу было вполовину меньше, чем кроватей, что само по себе удивительно: только на Матросске и Бутырке как минимум шестнадцать тысяч страждущих больницы арестантов, а ещё есть Капотня, 5-й изолятор, Петровка. (В Лефортово своя больница). На меня никто не обратил внимания. Оглядев камеру, я оценил обстановку следующим образом: контакт нужно установить, в первую очередь, вон с тем здоровенным парнем характерно уголовного вида — этот явно принадлежит душой и телом преступному миру, и, наверно, в хате лидер (смотрящих в хатах на больнице нет; есть смотрящий за положением на всей больнице, на тубонаре). Остальные в хате выглядели как мелкие сошки. Кто-то в углу у окна прятал лицо за пологом; странно, но бывает: может, крыша ползёт. Проблем с местами нет. Выдержав паузу, в течение которой никто мне не сказал ни слова, я поставил баул на пустую кровать и объявил:
Алексей Николаевич Павлов. Статья 160, часть 3, от пяти до десяти, Бутырка, на тюрьме полгода. Какое положение в хате? С кем можно поговорить?
Не отозвался никто, что ничуть не смутило, и даже обрадовало, но тут резко отодвинулась занавеска в углу у окна, с нижней кровати встал арестант, прятавший лицо, на котором отразилась целая гамма переживаний, где не последним был страх, и решительно пошёл в мою сторону.
Е….-копать! — изумился я, — Вова! Какая встреча! — от неожиданности я несколько минут громко матерился, соображая, как себя вести, одновременно приводя камеру в полное расположение к себе.
Это был Вова Дьяков. Тонкий мусорской ход. Мне ничего не стоит сейчас же, немедленно поднять вопрос о Вове, как о подкумке и гаде, и кто-то, видимо, на это рассчитывает (и правильно рассчитывает!), но я делаю вид, что все в порядке, чем, безусловно, охраняю свою судьбу. Арестант всегда имеет право на позицию отстранения от чужих проблем.
Ты здесь случайно? — ещё не справившись с собой, подозрительно интересуется Вова.
А ты сомневаешься? Нет, Володя, — говорю я, — ты меня хорошо знаешь: я на эти дела не иду. И не пойду никогда — это ты тоже знаешь. А вот ты — по-прежнему смотрящий на спецу? — не удержался я, после чего железно решил: дальше ни слова.
Володя поёжился, как от холода, но, взяв себя в руки, повёл дружелюбную беседу, и куда девалась грозная самоуверенность крутого «смотрящего» полугодичной давности — осталась сама кротость. А когда Володя понял, что конфликт мне не нужен, — успокоился и обрёл уверенность. Все устаканилось, я устроился на понравившемся месте, рядом с грозным уголовником, Вова достал новенькую колоду, и составилось небольшое общество развлечься в дурака без интереса.
Вова, оказывается, и на больничке преуспел, выступив за крутого. Сергей, парень, с которым я хотел познакомиться в первую очередь, заехал на тюрьму сразу после освобождения из зоны, по новому обвинению в квартирной краже, будучи задержан при продаже золотых изделий, находившихся в квартире. Строго говоря, доказательств причастности Сергея к краже не было (хотя, наверно, он знал о ней, а может, и участвовал), но в ИВСе мусора надевали ему на допросах полиэтиленовые пакеты на голову, а так как, совершенно измучившись, Сергей все равно не раскололся, мусора отказали ему в уколах инсулина, без которого Сергею с сахарным диабетом грозила смерть. И тогда, когда белый свет стал уже меркнуть для него, Сергей подписал все, что ему было предложено (а предложено было, по его словам, гораздо больше, чем могло соответствовать действительности). В Матросске он сразу попал на больницу, отказался от данных показаний, объяснив, как они были даны, и вот рядом с ним обрисовался дружбан Вова. Серёга старый арестант, но и ему невдомёк, что побеседует он с кем-то из сокамерников, и сложится у подкумка мнение, которое он изложит письменно куму; эта писанина ляжет Сергею в уголовное дело, и даже на ознакомке обвиняемый её не прочтёт, а благородный (или благородная) судья в мантии вперит зенки, прежде всего, в эту х…ю, а не в другие материалы дела, и вот результат — поедешь ты, Серёга, через пару месяцев опять на зону на шесть долгих лет, потому что будешь признан виновным, потому что нефига делиться делюгой с сокамерниками. С моим появлением Вова перестал интересоваться делюгой Сергея, а когда тот обратился к Вове: «Володя, ты обещал ещё что-то посоветовать» — Вова напрягся и нарочито ответил: «Думай сам, не маленький». Ах, Вова, Вова… Неужели тебе не будет стыдно потом, когда, будучи признан виновным по статье от семи до двенадцати, ты получишь два и уйдёшь за отсиженным. Нет, не перед теми, кого ты сдавал — перед ними тебе точно не будет стыдно, а перед собой. А? Во-ва? («…И если жил ты как свинья, останешься свиньёю».) А Вова, кивая на Серёгу, когда тот уходит на укол, говорит каждый раз: «Дурак. Сам себе дело сшил».
В целом же в камере устанавливается благостная обстановка, несмотря на то, что один из сокамерников оказывается сыном начальника управления центробанка, который подписывал мою банковскую лицензию, а другой — знакомым моего знакомого из Лиссабона. В тюрьме мало случайного. Но моя речь такова, что из неё, кроме как о здоровье, не узнаешь практически ничего. Камера довольно чистая. Серёга отмыл порошком стены; до потолка же не достал, и по нему можно представить, что за стены были раньше — достаточно отметить присутствие на потолке прилипших грязных трусов. Полы моет бомж, которому скоро на волю. С тараканами борюсь я. — «Бесполезно» — говорят все, но я их бью и бью (на Матросске тараканы кусаются), и через несколько дней оставшиеся в живых твари, увидев меня, бегом бегут к тормозам и выламываются в щель у пола на продол.
Кроме Серёги с диабетом, реально больных в хате не видно (у остальных все тот же легендарный диагноз — воспаление лёгких), поэтому ко мне все относятся сочувственно, и даже Вова не сомневается, что я заехал на больницу по состоянию здоровья, а не иначе. Когда больничное общество, оторвавшись от обычных дел (карты, дорога, чай, сигареты), выбралось на прогулку на крышу больничного корпуса, все как лоси ломанулись по лестнице наверх в прогулочный дворик; поддался азарту и я, что моментально привело к результату: в то, что я болен, окончательно поверили все, включая меня. На реальную медпомощь я не рассчитывал, но, после разговора с заведующей отделением, мне назначили уколы пирацетама, сказав, что делают это в порядке исключения, а мне следует через адвоката заказать медицинскую передачу и восполнить утрату больничного неприкосновенного запаса. Это было совершённое медицинское чудо. После уколов буквально было слышно как трещат распрямляясь в голове сосуды, как кровь радостно бежит по ним, и боль, застарелая как человеческие пороки, отступает и исчезает. Вскоре закончилась многомесячная пытка; как мало для этого было надо: пара десятков уколов да тот самый циннарезин в заманчивой зеленой упаковке, близкий и недоступный, которым гордилась врачиха на Бутырке. Это теперь я знаю, что бутырской тётеньке в белом халате надо было организовать денег, и золотой ключик был бы в кармане. Только х.. тебе, господин больной, без бабок ты говно и звать тебя никак. Это здесь и сейчас врачи кругом как люди, потому что каждый из них получил на лапу. А что до той комедии, в которой ты игрок, пусть и невольный, то им тётенькам и дяденькам — до п…. и по х. у нас просто так не сажают, недаром их первый вопрос не о здоровье, а «какое преступление Вы совершили?». Одноразовые шприцы и лекарства передаются через адвоката. Шприц медсёстры распаковывают при тебе. Впрочем, девки они ещё те, и большинство использованных шприцов продаётся здесь же, в отделении, наркоманам. Что касается больничных лекарств, то да, каждый день все получают через кормушку набор таблеток, изготовленных при царе горохе (одну таблетку я пытался раздавить или разбить, это не удалось), их все аккуратно спускают в дальняк, потому что травиться никому неохота, а аккуратно потому, что неизменный стукач донесёт куму, что больной вовсе не болен, т.к. лекарством манкирует. Конечно, стукач и так что хочет скажет, но почему-то ему всегда нужен повод формальный, хотя бы и бессмысленный, т.е. прямо как доблестному правосудию; у абсурда свои законы.
Для арестанта важнее лекарств запись в истории болезни; так считают и больные, и, видимо, врачи.
Что Вам помогает? — спросила врач.
У нас нет таких специалистов.
Мой врач готов прийти сюда для оказания мне помощи. Он имеет высшую квалификацию, никто этого не оспорит.
Исключено. Здесь Вы можете получать помощь только наших специалистов. Что-нибудь ещё Вам помогает?
Бандажный пояс. Но в нем есть металлические пластины.
Они зашиты внутри?
Я разрешу. Пишите заявление. Адвокат пусть купит и передаст мне.
После всего пережитого происходящее казалось чудом, отчего я несколько расслабился, чего хватило, чтобы моментально перейти в разряд лежачих больных, что в этой ситуации (звучит парадоксально, но факт) — было мне на руку; важно было только не утратить над собой контроль, и я ловил ту грань состояния, перед которой ещё можно было при необходимости упереться рогом. И вообще, после того, как состоялось пришествие на больницу, вызрело убеждение, что мясорубка российского правосудия все-таки мной подавится и выплюнет на волю. Многократно переживая эту мысль, я лежал одетый на кровати под решкой, на грязной простыне, закутавшись в куртку и укрывшись тощим тюремным одеялом, а с улицы несло холодом то ли ушедшей осени, то ли пришедшей зимы.
Много вещей, в которые трудно поверить, происходило на тюрьме; например, ещё на Матроске начали шататься передние зубы, один из них я потянул пальцами, и он стал без боли вылезать из десны, я испугался, задвинул его на место и некоторое время посвятил размышлениям о том, что зубы должны перестать шататься, что и произошло (лишь через три года этот зуб пришлось удалить). Больные зубы — в тюрьме большая проблема. Никто тебе их лечить не станет, хотя и есть, говорят, на Матросске зубоврачебный кабинет; однако не разу не слышал, чтобы кто-то там бывал. Зато слышал страшные рассказы про операции без наркоза (если нет лавэ для лепилы), но сам не видел, утверждать не могу.
Наконец, прозвучало «Павлов, на вызов!». На пару этажей вниз, через узкий длинный больничный коридор, где по одну сторону через окна видна свободная Москва, а по другую ждут своей судьбы в камерах больные СПИДом. Здесь страшно, хочется ни к чему не прикасаться и скорее уйти, а идя за вертухаем, нужно захлопывать за собой каждую дверь, к которой стараешься прикоснуться в таком месте, где не берутся другие. Через открытую кормушку камеры увидел кабинетный интерьер: телевизор, много книг на нескольких полках, все тюремного прокуренного цвета, но людей не заметил, а вглядываться не стал: из кормушки явственно веяло смертью. Перешли на тюрьму. Все знакомо. Вот комната, куда перед вызовом набивают массу народу, но меня поместили в отдельный боксик, и даже не захлопнули, а только прикрыли не полностью дверь. В соседнем боксике с распахнутой дверью сидит знакомая рожа. Не сразу соображаю, что это Славян. В коридорчике вертухая нет, обычно в такой момент все переговариваются, но Слава молчит, слышно, как он ёрзает на лавке и сопит. Тюрьма — это провокация на каждом шагу. Этого гада мне ещё не хватало. Если заговорит, дам стопаря, кратко и жёстко. Кто-то старательно выводит меня на конфликт, чтобы (ясное дело) под любым предлогом убрать с больницы.
В кабинете Косуля и незнакомая женщина. Косуля торопливо восклицает:
Вот, Алексей! Я обещал тебе больницу — ты её получил. Вот второй адвокат, как ты хотел, а дальше поступай, как знаешь! — Косуля выглядел обиженным, даже оскорблённым. — А теперь я, Алексей, ухожу. Решай сам, будешь со мной работать, не будешь. Я сделал все, что мог!
(Какая ты сука, Косуля.)
Капля долбит камень. Gutta cavat lapidem. Мы обязательно когда-нибудь добиваемся своего. Проблема лишь в том, что мы хотим.
Меня зовут Ирина Николаевна, — сказала женщина, — я надеюсь Вам помочь.
Тюрьма есть тюрьма, и новый человек не бином Ньютона. Ирина Николаевна была нормальным человеком, не умеющим врать и, как это не парадоксально, честным. А главное, она была на моей стороне. Через несколько минут разговора я был в этом убеждён. Что-то стало исправляться в моей жизни, какую-то подлую ношу удалось сбросить с плеч вместе с именитым адвокатом. С этого момента следовало категорически побеждать.
Да, я от Вашей жены, не сомневайтесь. Там все живы, здоровы. Сейчас она с дочерью в Японии. Надолго. Мы созваниваемся. Если не верите, я попробую принести сотовый телефон. Риск очень высок, но решать Вам. Если скажете, то принесу.
Стало совсем легко. В Японии они недосягаемы.
— Приходить к Вам буду столько раз в неделю, сколько скажете, без ограничения времени, хоть на целый день, от восьми утра до восьми вечера. А что Вы думаете про Александра Яковлевича? Вы ему не верите?
Я не знаю. Мне кажется, он прямолинеен, но не больше. Мы давно знакомы. Правда, мы вместе дел не вели. Подумайте, может быть, Вы преувеличиваете? Я, конечно, догадываюсь, с кем он работает, но он должен быть порядочным человеком. Мою кандидатуру приняли на условии, что я сделаю все, чтобы Косуля остался работать с Вами. Но я сделаю так, как скажете Вы. А Вам следует как-то проверить, что я говорю правду, я не знаю, как.
Я уже проверил, Ирина Николаевна. Спасибо Вам. Скажите мне одно: какие у меня шансы.
Я ознакомилась с делом. Мне позволили прочитать лишь малую часть, но у следствия против Вас нет ничего, и если Вам не предъявят другое обвинение, все в Вашу пользу. К сожалению, второе обвинение Вам готовят, но Суков сильно сомневается, что сумеет собрать доказательства, и не решил, что делать. Поэтому Вам нужно уходить как можно быстрее на свободу под залог. Вообще следствие в шоке, у них не получается ничего, и до суда в ближайший год дело не дойдёт, а значит, Вас могут выпустить за истечением крайнего срока содержания под стражей.
То есть двух лет?
Да. Но Вам следует держаться. Когда-нибудь Вы будете гордиться тем, что сидели в тюрьме.
То есть, рекомендуете?
Нет. Но Вы здесь. Скажите, Вы когда-нибудь жили или работали около тюрьмы?
Работал. Прямо напротив пересыльной.
Я так и знала. Знаете, есть какая-то закономерность.
Закономерность в другом. Но, в общем, Вы правы. Вы можете передать письмо?
Конечно. По факсу. Только не пишите ничего лишнего: меня могут обыскать.
Я взял ручку и написал:
«Здравствуй! Как там, в тех краях, где ты. Что там нынче, осень или лето. И какие там цветут цветы. И какого цвета там рассветы. Что там нынче, радость или грусть. Что там дети учат наизусть, что хотят от завтрашнего дня? — напиши два слова для меня. Что там видно на краю земли, на скольких стоит она слонах. То, что мне лишь видится вдали, — можешь ли ты выразить в словах? Знаешь ли какие тайны Будды? Кто повелевает облаками? Можешь ли сказать о том, что будет, и какой ты хочешь в перстне камень. Где твой дом, и кто мы и откуда. Кто твои родные и друзья. Хочется надеяться на чудо, что тебя ещё увижу.
По пути назад, перед переходом на больницу, навстречу шёл другой стукач из хаты 226 — Валера. Этот, как и Слава, не ожидал встречи, а вертухаи, случайно, конечно, на некоторое время остановились, и не заговорить со старым знакомым было неприлично. — «Как дела?» — смутившись, поинтересовался Валера. — «Дела у прокурора» — ответил я. Видя, что дальше разговор не идёт, провожатый Валеры повёл его дальше, а я заковылял за своим. Вызов закончился действительной случайностью: на одной из лестниц повстречался кум, что мариновал нас в хате 228 и 226. Кум был в повседневной своей военной форме. (Это здесь они душегубы, а на воле они «пожарники».) Увидев меня, кум отвернулся и постарался пройти мимо. — «День добрый, — поприветствовал его я, — как Ваши дела?» — «Я Вас не помню, — очень вежливо отозвался кум, но остановился. — А Вы кто?» — «А я Павлов. Давеча с Вовой Дьяковым и Славяном гостил у Вас в два два шесть и два два восемь». — С моей стороны это была дерзость. Вертухай притормозил, не зная, как себя вести. Мне же реакция кума могла дать представление о том, насколько прочно моё положение. — «Вы сейчас на больнице?» — так же вежливо и бесстрастно поинтересовался кум. — «Да» — с удовольствием ответил я. — «Я желаю Вам всего хорошего. До свиданья» — «До свиданья». — Вертухай во все глаза глядел на эту сцену.
Заторопился в родную хату Вова: «Пойду я к себе. С врачом разговаривал. Она мне: „Надо ещё подлечиться: у Вас астматический компонент“. А я ей: „Нет, пойду в хату. Выписывайте меня. Скоро суд. На больнице был — этого достаточно“. Она мне: „А в чем обвиняют?“ Отвечаю: „В контрабанде. А Вы думали, в чем?“ Хорошая тётка. Лех, она же и у тебя лечащий?» — «Вроде да». — «Ну, и как она тебе?» — «В каком смысле?» — «Ну, как, ты же к ней не случайно попал». — «Ты по себе-то других не суди». — «Да ладно! Я и не скрываю». — «А мне и вовсе нечего скрывать. Оставайся здесь, коли можешь, здесь же лучше, чем в хате. Хоть в карты поиграем, а там пока и без смотрящего обойдутся». — «Да я уж там давно не смотрящий, там чего-то намутили, кто-то пришёл…» — Вова понёс ерунду, которую и слушать не хотелось. На следующий день его выписали. Уходил Володя их хаты с явным облегчением: «Ну, наконец-то! За полтинничек вертухай по зеленой проводит в хату — уже договорился. А то на сборке говно нюхать — на х.. нужно!»
А я остался, казалось, навсегда. Свободных мест полхаты, можно бродить меж кроватей, давить тараканов, курить и размышлять, и кажется, это верх благополучия.
Арестант Сергей слушал разговоры наши с Вовой всегда молча и никакой реакции не выказывал, но говорить о своей делюге перестал, ибо съездил на суд и вернулся с диагнозом: 6 лет колонии общего режима (что гораздо хуже строгого; разница, примерно, как между общаком и спецом, недаром тюремная присказка гласит, что хорошо бы получить срок поменьше и режим построже); а злобу вымещал на молчаливом бомже, которому, все знали, через несколько дней освобождаться за истечением срока статьи. Однажды, когда Серёга нанёс бомжу несколько сильных ударов в челюсть, тот потемнел лицом, осел на койку и стал гаснуть. Казалось, умирает. Сергей испугался, тормошил бомжа, призывая очнуться, и больше уже не бил, и тот благополучно дождался дня, когда в девять утра за тормозами назвали его фамилию. Странное чувство испытываешь, видя как арестант уходит на волю. Нет, не зависть, скорее удивляешься возможности освобождения; обводишь взглядом сокамерников и думаешь, неужели и вот этот, и тот, и я — тоже могут выйти за дверь и идти в любом самостоятельно избранном направлении? Сокамерники тем временем притихают и думают о своём. Нет, не легко провожать на свободу.
Слышу закономерный вопрос: а что же ты, порядочный арестант, не заступился за бомжа? Ведь рукоприкладство на тюрьме запрещено. Напомню: каждый имеет право отвечать только за себя. Не всякому и это удаётся. Кому-то из Вас, читающих эти строки, ещё предстоит увидеть тюрьму наяву, там и припомнятся Вам слова «не осуждайте, и не осуждены будете, ибо тем судом, которым судите, будете судимы сами».
Итак, с Сергеем у нас сложились вполне добрососедские отношения. Остальная публика была невзрачна: то бомж, то стукач, премированный отдыхом на больничке, то наркоман с одной и той же темой на все случаи жизни, то вообще не поймёшь кто, в общем, мелочь пузатая. Есть словоохотливый банкир, но от него подальше, а Серёга вообще вопросов не задаёт, и потому первое дело — карты — уселись поудобнее, чтоб в шнифт не пропасли, и хорошо коротается время. По воле Серёга крадун, специалист по карману. Между прочим, нельзя сказать «карманный вор». В лучшем случае тебя поправят. Один арестант, зайдя в хату, сообщил братве, что он воровал. — «Так, значит, ты — Вор?» — последовал вопрос. — «Да» — ответил тот. И тут же получил кулаком по репе, несмотря на запрет рукоприкладства, ибо обосновать такое исключение из правил не составляло труда. Зашла речь о взглядах на жизнь. Говорю: «Каждому своё. Жизнь не понять, её можно только прожить». Сергей в ответ: «Это так, но ты сам говорил, что существует непосредственное знание. Со временем понимаешь, например, что красть нехорошо. Жаль только, что потом забываешь». — «Что мешает помнить?» — «Ты на воле среди разных людей жил, а у меня, кроме преступников, нет знакомых. Освободился — на тебе клеймо. На работу не возьмут, люди сторонятся. Слушай, если тебя на суде освободят, я заберу себе твой пояс? На зоне качаться буду, классная вещь для поясницы. И буду их, чертей, бить. Бить». — Серёга парень крепкий, и «чертям» определённо достанется. — «Погоди! — суёт карты под одеяло и устремляется на звук звякнувшей кормушки. На продоле дежурит вертухайша, не чуждая желания пообщаться с арестантами, и Серёга, наклонившись к кормушке, говорит с ней чуть ли не часами. Уже известно, что зовут её Надя, бывшая учительница, иногородняя, приехала в Москву за лучшей долей, зарплата в пересчёте на валюту 16 долларов в месяц. Иногда Надя отвлекается по делам, но потом сама открывает кормушку, или Сергей проволочкой через шнифт (чтоб не ударили с продола дубинкой по пальцу) отодвигает заслонку и, увидев Надю, стучит в тормоза: «Старшая! Подойди к семь два ноль!» (номер хаты с этого момента повествования уже не соответствует действительности: не помню; а тюремная тетрадь не сохранилась, сжёг я её на мартовском снегу в лесочке перед домом вместе с тюремными вещами, и горели они, надо заметить, по-особенному, долго, зловонно и дотла). Надя повелительно отвечает: «Что нужно!?» — и беседы продолжаются. Я уже играю с воображаемым соперником, отчаявшись дождаться Серёгу, а тот уже расстегнул штаны и, отойдя от кормушки, покачиваясь демонстрирует Наде нечто такое, чего с этой стороны не разглядеть. Надя с каменным лицом остановившимся взглядом глядит в кормушку, а Сергей с пафосом восклицает: «Что, этого хочешь?! На, смотри! Смотри!»
Продолжим? — говорю, когда Сергей возвращается.
Не. — отвлечённо бормочет он, — не могу: только пизда перед глазами. Негр тут был. Я ему: «Давай я тебя выебу!» А он по-английски: мол, не понимаю, чего хочешь. Я его за шкибот, кулак к носу и жестами: «Хочу ебать твою чёрную жопу! Понял?»
А он смеётся… Что тут поделаешь. То ли дело дома. Я, как освободился, мы с друзьями вечером в микрорайоне пидараса поймали и вшестером выебли. Кричал, пидер, убежать хотел, даже вырвался. Мы его опять поймали и опять выебли. До зоны доехать — там не проблема.
Эта же самая Надя, прослышав о моем учительском образовании, пыталась завести суровые беседы и со мной, но, натолкнувшись на молчание, сильно меня невзлюбила и настойчиво выпасала в шнифты, чтобы зычным голосом указать, кто в доме хозяин, когда я подымусь к решке. К дороге я подступался редко и неохотно, хотя решка на больнице не высоко. Наша хата сообщалась вверх со спидовым женским отделением и вниз со спидовым мужским. Вылавливая удочкой верёвку с малявой или грузом, я внимательно оглядывал руки, нет ли порезов, выбирал верёвку как можно меньше касаясь её, и потом тщательно мыл руки. Девчонки сверху все время просили загнать им хороших сигарет и бумаги на малявы и время от времени интересовались, нет ли у нас «баяна». Однажды они загнали Серёге ножницы, которыми он взялся стричь ногти и порезался до крови. Несколько дней Серёга гнал самым отчаянным образом, так что на лбу проступали капли пота, потом решил, что чему быть, того не миновать, смирился и постепенно успокоился. Я же отслеживал комаров, которые живут на больнице Матросской Тишины даже зимой, и исправно уничтожал их, особенно сердясь на тех, что напились крови. Говорят, комары могут быть переносчиками СПИДа, а до последнего — далеко ли. Кто-то из спидовых снизу загнал Серёге тетрадь со своими стихами, которые Сергей читал жадно и сосредоточенно, а некоторые переписал себе. Можно ли почитать, поинтересовался я. Стихи оказались плохие по форме, похожие друг на друга, трагичные и безнадёжные. Но Сергею они понравились очень. Одно запомнилось и мне. Вот оно.
Я был предназначен судьбой для побед,
Для славы и слов благосклонных и лестных,
Но вот я в тюрьме, и померкнувший свет
Кричит голосами теней бестелесных.
Мне снова на суд, в заколдованный круг,
Но руки сковали стальные браслеты
К отребью в погонах карающих рук
Никак протянуть мне возможности нету.
Я вновь в автозэке, погибший талант,
Среди обречённых, приезжих и местных.
Как будто я тысячу лет арестант
И езжу на суд со времён неизвестных.
Отсылая тетрадь, Сергей отписал автору в духе арестантской братской солидарности и составил, какую мог, продуктовую посылку. В основном же от мужского спидового отделения веяло грозной тишиной. Напротив, каждое утро с верхнего этажа, как в один голос, отчётливо и жизнерадостно, девчонки кричали с решки: «Доброе утро, страна!!» — и, довольные тем, что кого-то разбудили, заливались весёлым смехом. Ресничек у них на решке нет, и женские голоса разносятся далеко по тюремным дворам и, может быть, слышны в утренней тишине на набережной Яузы, где прохожих, впрочем, не бывает, там, деловито вписываясь в повороты, спешат вперёд и мимо лишь автомобили, которым неведомо, что за кирпичным забором в корпусах томятся «мамки» — женщины с детьми, рождёнными несвободными, не рассчитывают выйти на волю больные СПИДом, гепатитом и туберкулёзом, гниют заживо обитатели общака, страдают от зубной боли тысячи арестантов, а мусора калечат почём зря кого захотят, что людские страдания там столь разнообразны и собраны воедино; не есть ли это место полномочное представительство ада? Не ведают того спешащие мимо автомобили. Не хотелось думать об этом и мне. Под кроватью обнаружилась коробка с книгами. В. Катаев, «Я сын трудового народа». Издание тридцатых годов. Открываю книжку. Печать: «Внутренняя тюрьма НКВД. Отметки спичкой или ногтем на полях и между строк влекут за собой отказ в пользовании библиотекой». Книга в идеальном состоянии. С отвращением кидаю её в коробку, не хочется прикасаться. Сколько лет не было такого желания у десятков (или сотен) тысяч арестантов, которым она попадалась на глаза. И что такое внутренняя тюрьма. Значит, есть и внешняя? Или вы, «дорогие россияне», все в тюрьме, а мы, зэки, в карцере?
Шли недели, менялись люди, только Серёга оставался на больнице и ждал этапа. Остальные долго не задерживались: неделя — и выздоровел. Прошёл месяц, по-прежнему в хате неполная загрузка, контингент незаметный. Больничная лафа. Каждый день на больнице увеличивает шансы. Уколы пирацетама, анальгина и даже витаминов, бандажный пояс и кое-какие переданные через адвоката непросроченные таблетки возродили надежду, что здоровье окончательно загублено не будет. Во избежание позвоночных проблем, да и сил уже не хватало возноситься наверх, на прогулку я не ходил, вместо этого решая загадку быстро и медленно текущего времени, убедившись окончательно в его относительности и неравномерности. Глядя на стрелку часов, принесённых Ириной Николаевной, я отчётливо замечал, как время останавливалось не только в ощущении, но и сама секундная стрелка вдруг зависала на мгновенье, и секунды в вязком пространстве длились дольше, потом вдруг циферблат становился звонким и напряжённым, а стрелки, как с цепи сорвавшись, совершали стремительные обороты. «Не глюки ли» — думал я без страха, погружаясь в свои миры, из которых временами возникали энергетические смерчи, которые, казалось, или разорвут душу, или разрушат стены, в ярости я обращал эти вихри в пространство, обрушивая их на препятствия и врагов, замечая иногда при этом, что сокамерники делают то, что я им мысленно прикажу. Отныне этот инструмент подлежал заточке; если не иначе, то так, но я уйду из тюрьмы. Мир обычный встал на ребро, как монета, предметы засветились яркими фосфорическими красками двойного образа — вот они, эйдосы Платона! Каждый предмет носит в себе свой образ, и можно воздействовать на образ, чтобы поменялся предмет. Нет, я выйду отсюда. Уже пронёсся над Москвой тот мистический ураган, что зародился неизвестно где и лезвием разрезал Москву пополам, пронёсся, поднимая в воздух металлические гаражи, снося крыши, срезал кресты с куполов Новодевичьего, с корнями вырвал деревья у подъезда моего дома, разметал рекламные щиты на Тверской и, как монеты в ладонях, потряс Матросскую Тишину: задрожали стены, погас свет, зловещий и радостный гул нарастал, и воздушные вихри заиграли железными пальцами на струнах тюремных решёток. В наступившей темноте арестанты стояли как в церкви и кто-то с надеждой произнёс: «Может, тюрьма развалится…» «Я выйду отсюда» — говорил я себе, но тюрьма оставалась сильнее.
Играть в карты я мог до бесконечности и сожалел, если не хотел играть Сергей. Арестанты сторонились нас, в игру категорически не вступали. Выигрывать мне нравилось, а Сергей от частого проигрыша мрачнел и брал паузу. — «Ты чего? — изумлялся я, — мы же время коротаем». — «Цепляет» — признавался Сергей, и приободрялся при выигрыше. Откуда-то у него вдруг появилась книга Меллвилла. — «Жаль, неинтересно» — прокомментировал он, а я взялся читать и оказался как во сне. Тюрьма исчезла, и сон был хороший, каких не было со времён воли, разве что наяву. Впрочем, и этот был наяву. Прожитая жизнь ничем не отличается от прочитанной книги, как невозможно отрицать и то, что ты живёшь, если не всегда, то долго: разве ты можешь сказать, что однажды родился? Нет, скорее жил и раньше. Будучи арестантом, легко понять, как можно бояться вечности, вот мы и думаем, наверно, что рождаемся и умираем.
В зависимости от контингента обстановка в хате меняется. То все общее, и чай, и сахар, и сигареты, то каждый за себя или с кем-то, семьи на больнице сформироваться не успевают. Мы же с Серёгой, как больничные старожилы, старались помогать друг другу: то ему через решку придёт груз, то ноги (мусора, шныри) в кормушку передадут посылку от многочисленных знакомых каторжан, или мне повезёт пронести что-либо от адвоката или придёт передача. Во всяком случае, две пачки сигарет с каждого вызова — это обязательно. А то, что сигареты — «Парламент», дорогие и хорошие, подымет авторитет любого арестанта. С появлением Ирины Николаевны стало не так голодно, каждый раз она приносила бутерброды и сок, но проблема оставалась. Сергей, как старый арестант, стойко переносил чувство голода, а я вообще лишь недавно обратил внимание, что оно что-то значит, но с крепнущей надеждой возвращалось желание этого чувства не испытывать. В основном мы заглушали его сухарями, благо невкусного невольничьего хлеба на больнице давали много. — «От баланды х.. толстеет» — грустно и назидательно шутил Сергей, доставая с решки завёрнутые в грязную тряпку остатки сала (подоконник на решке служит холодильником). За решкой была какая-то погода, по хате гулял морозный ветер, круглые сутки мы были одеты во все, что было. Заглянула в хату лечащая. Все уважительно встали, я не смог (прихватило). Не подняться при посещении врача может значить рассердить его, последствия чего ясны. Я забеспокоился, но подняться не смог.
Что, холодно тут у вас? — спросила врач. — Пора поставить рамы. Я распоряжусь.
В этот же день хозбандиты под её личным руководством поставили рамы со стёклами, стало тепло и не так противно. Почему-то особенно омерзительно видеть тараканов в холодном помещении.
Назначили новый курс уколов, это страшно порадовало, значит, ещё минимум десять дней буду на больнице, это чувствовалось и по другим, едва уловимым признакам. Я вообще не хотел ни на какую Бутырку. Правда, предстояло опять посетить суд, почему-то Тверской, а не Преображенский, несмотря на то, что все, кто на Матросске, должны ехать в Преображенский. Изредка показывавшийся Косуля с значительным видом пояснил, что другой из главных обвиняемых по моему делу, некий Козлов (как говорили, мой подельник), о котором я в жизни не слышал, ушёл на свободу через Преображенский суд, и теперь там шорох, в суде якобы идёт прокурорская проверка, и мне туда никак нельзя. Приходилось соглашаться, т.к. против лома нет приёма (вопреки Косуле, я опять написал заявление с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения в Преображенском суде, но, видать, мои послания туда не доходили по определению), и бороться с синдромом Сукова-Косули я целиком по этому вопросу доверил Ирине Николаевне. Слабое место арестанта — он готов довериться всегда, хотя его и трудно обмануть. — «Потерпите, — говорила Ирина Николаевна. — Пишите, например, стихи». — «Ирина Николаевна, а Вы бы стали писать стихи на помойке?» — «Да, я слышала, какие в тюрьме условия». — «Хорошо, что не видели». — «Вы будете сердиться, но Косуля требует, чтобы на этот раз в суде Вы отказались от заседания до окончания лечения. Я согласна с Вами, но сейчас доводить ситуацию до критической как никогда опасно. Вы хорошо держите их на грани возможного, но переступать за неё не стоит. Я могу лишиться возможности Вам помочь, а я бы хотела. Особенно сейчас, когда появилась возможность получить медсправки. Тюремная больница их обычно не выдаёт, но нам даст». Как взорвался протестом воспалённый мозг! Но я ответил: «Хорошо». Потому что дальше следовала глава 28 под названием ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ШАХМАТ.
«Если перевес позиционный, то не следует упрощать игру, лучше накапливать преимущество».
Э. Гуфельд, международный гроссмейстер.
Сергей, подлец, дал-таки мне пинка, когда я отправился на судовую сборку. Как обычно, я разозлился, в особенности понимая, что не суждено ему сегодня завладеть моим поясом, что неизбежно приеду назад, а день предстоит долгий, полный стеснённых обстоятельств; одно хорошо — пинок почему-то, как всегда, на самочувствии не отразился, и есть ясность, ни гнать, ни надеяться нет оснований, иди себе арестантской тропой да кури табак. Поездка в суд была такой же, как с Бутырки, с той лишь разницей, что на сборку опустили (не путать с «опустили на сборке») не ночью, а утром, не пришлось высиживать в тусклом дымном дурмане долгие часы, и не было шмона. Тот же автозэк, набитый до отказа (заехали на Бутырку, подобрали страждущих), тот же суд, наручники, автоматчик в пуленепробиваемом шлеме, мусора, ещё не пьяные, а потому сердитые, какая-то судья, заглядывающая в глаза и допытывающаяся, правда ли я не хочу чтобы заседание состоялось в связи с тем, что присутствует лишь один адвокат, а Косули нет, те же узкие холодные тусклые коморки с судовыми, теряющими разум, сиротские ботинки без шнурков как символ унижения, и неизменный сосед с какой-нибудь экзотической болезнью, от которого стараешься дышать в сторону, в общем, все то, что сопутствует правосудию в том или ином незамысловатом виде одного из филиалов полномочного представительства, скажем так, государства Йотенгейм. Вся эта коричневая хренотень закончилась поздно. Вечером автозэк заехал на Бутырку, а там как раз пересменок. Часа четыре автозэк стоял на морозе, большинство пребывало в самых неудобных позах, было так тесно, что я и не старался стоять, упасть было невозможно. И очень холодно. Потом автозэк гоняли на скорости вперёд-назад по тюремному двору: это подвыпивший мусор-хохотунчик учился водить автомобиль. От разгонов и торможений голова падала в пропасть. После обучения езде автозэк перестал заводиться, стало вероятным заночевать в нем на дворе Бутырки, отчего приуныла даже молодёжь. Но все обошлось, и за полночь в малюсенькой поганой сборке родной Матросски судовые радостно зашумели за то за се. Вот рядом оказался парень из один три пять. Там мы не общались, парень был молчалив и отрешён, его лицо всегда являло застывшую маску, а здесь ожило.
Ты же из один три пять? — интересуюсь.
Я тоже у вас был с полгода назад.
Да, семь лет дали. А я не согласен! Я там вообще не при делах. Подельник утопил. Терпила меня вообще не вспомнил.
Будешь писать касатку?
Нет, на зону. Из хаты б выбраться. Все, хватит.
Как Армен? Передай ему привет, скажи: не помощник я ему. Он-то думал: меня на волю.
Кто ещё осудился?
Ахмед. Девятнадцать дали. Юра-хлеборез восемь строгого получил и семь крытой. Уехал крысой.
Да так. В чужой баул залез, скрысил. Увидели.
Под шконарь загнали. Хлеборез теперь другой.
А он? Там же тараканы сожрут.
Спокойно. Да, говорит, я крыса. Опустился совсем.
А Строгий как? Куролесит?
Спиртягу гонит. Строгий — куражный пацан.
Сколько ему ещё?
Не знаю, года два.
Саша-то на суды все ездит? Живой?
Это Старый-то? Живой. Этот вытянет.
Нормально. Они с Сашей.
Кипеж не осудился?
Всей хате большой привет и свободы.
Расстались. Он пошёл в суперкошмарную хату No 135, чтобы собрать баул и уйти в осужденку, а я, с благотворным сознанием своей почти что неуязвимости, на больничку. Смешно было видеть, какими глазами меня встретил Сергей. Мой пояс был уже на нем. — «Вернулся…» — констатировал он. И полетели, е…. мать, масти перелётными птицами, и закурился табак по хате, и замлели в смертельном и сладком невольничьем недуге каторжане! Долго горела чёрным пламенем ночь, бог весть какие пожары плавили бетон между спидовым этажом женским и спидовым мужским. Молчали вертухаи, глядя в шнифты, как два зэка швыряют тузов и посылают мусоров на х.. . Никто не открыл тормозов, ибо горячо было для них за порогом. «Это тебе, Володь, повезло» скажет вертухай, читая эти строки. И будет, наверно,А прав. Где ты теперь, Серёга. И тебе я, братан, не помощник. Хотел бы, да не могу. Ну, да ты пробьёшься. Не в этой жизни, так в другой. По-любому арестантский тебе привет и всем достойным, кто рядом.
Настало утро, утро туманное, утро седое. Робкий мусор бодрячком быстренько осуществил проверку. Оставалось лишь сбросить с себя пепел вулкана. На обширном дальняке с очком вместо унитаза удалось классно помыться, кипятя воду в хозяйке. В общую баню («помойку») идти не хотелось, да и не звали. Раз в неделю на продоле в клетке за перегородкой можно было помыться, видя иногда, как перед тобой там ополаскивают полутрупы.
Зашли в хату две колоритные личности. Высокий усатый арестант с нездоровым цветом лица, едва переставляя ноги, затащил большой баул и радушно, будто достиг долгожданной цели (а это так и было), поприветствовал всех: «Здравствуйте, каторжане! Куда тут можно голову приклонить?» — «А куда хочешь, места много». Юра явил собой пример словоохотливого наркомана. Язык у Юры оказался без костей, но сердиться не было никакой возможности, хотя через пару часов все наслушались по горло про то, как Юра зарядил «машину», пустил по вене (не путать с «пустил по тухлой вене»), как поймал приход, как кумарился когда приняли, как раскумарился в хате, как пошёл на дело по Тверской, а машина всегда при нем, в кармане, как стало невмочь и опять поймал приход, как старая мама ругает, а машина в кармане и в соседней комнате зарядился белым, а когда белого нет, так на безрыбье и винтом хочется побаловаться, но винт — это низко, поэтому, бабки не жалеючи, уж лучше морфия, а луше белого так и нет ничего, благо машина всегда тут, в кармане, у него и сейчас есть машина. И так далее и тому подобное. Чтоб слишком часто не повторяться, все это Юра перемежал длинными периодами мата. Выглядело смешно. Особенно когда я в сердцах восклицал:
Юра! (Так, мол, и так). Какого (так, мол, и так) ты так грязно ругаешься! У тебя совесть есть? Ты всех уже (так мол и так)!
Ой, извини! — спохватывался Юра. — И то правда! Я больше не буду.
Пять минут передышки было обеспечено. Ну, что тут скажешь. Одно слово — Коля-Терминатор Второй.
Другой арестант сразу залёг спать, а проснувшись, внимательно исподтишка оглядел каждого и долго пребывал в напряжении, преувеличивая симптомы своей болезни, выглядевшей обычной простудой. Потом успокоился и пошёл на контакт. Оказался полосатым. Представился: «Валера О.О.Р». Что означает особо опасный рецидивист. Почему-то ко мне Валера поначалу отнёсся с опаской; наверно, потому что я курил дорогие сигареты, вёл себя уверенно, если не нагло, и даже устроил на всю хату разнос стукачу с общака, неожиданно для себя отметив, что претендую в коллективе на лидерство. «А оно мне надо?» — сказал я себе, осадил коня и взялся за старое, т.е. за игру, потому что как только начинаешь думать, что ты самый умный, обязательно случается какая-нибудь глупость. Валера присоединился к нам, и дело пошло веселей.
Сколько тебе лет? — поинтересовался Сергей.
Пятьдесят восемь. Тридцать лет в тюрьмах и лагерях.
А не скажешь. Выглядишь на сорок-сорок пять.
Тридцать лет за карман?
Да. Карман доказать легко. — При этом невооружённым взглядом было видно, что в этой непростой жизни только карманом не обошлось.
Неспешно и с удовольствием тасовал Валера колоду старыми узловатыми и неповоротливыми пальцами, складно мурлыкая русские романсы, а когда повествовал о чем-либо, меньше трех этажей не получалось по определению. Серёга к Валере отнёсся с уважением, как младший к старшему.
Что, Валера, по воле работал?
Да что ты… — благодушно отзывался Валера.
Делал, — соглашался Валера.
Поди и в карты можешь?
Как не мочь. Я сколько времени в лагерях. Конечно, могу, отвечал Валера, сдавая карты.
Покажешь? — не унимался Сергей, напрягаясь как охотник.
Ну, если хотите… — отвечал Валера, — Правда, я уже не тот, годы, руки отяжелели. Но сейчас что-нибудь придумаю.
До этого мы играли в дурака. Валера разделил уже лежавшую перед нами колоду и показал, сам не глядя, карту из середины, после чего вернул карту на место. Это был червонный туз. «А теперь смотрите» — сказал Валера. Мы в четыре глаза уставились на его руки. Одной рукой он держал розданные карты, другой неуклюже поправлял их, потом свободную руку поднял чуть выше плеча, внешней стороной к нам, будто в ней что-то было, медленно развернул к нам ладонь, она была пуста. Но через секунду в ней загорелся, нет, не появился, а загорелся, ярко как на цветном экране, червонный, как ненастоящий, туз. Вспыхнул и пропал, а Валера недоуменно посмотрел на свою ладонь, повертел её так и сяк, ничего в ней не было. — «Вот что творит старый джус!» — восхищённо выдохнул Сергей и бросился искать туза в колоде. Туз был там.
Валера, — говорю, — с тобой играть нельзя.
Конечно, нельзя. Но мы же отдыхаем. Мы же для души.
Для души Валера играл обычно, но с таким удовольствием, что любо-дорого было смотреть.
Зашёл в хату Миша Ангел из камеры строгого режима. Впечатляющего роста, с огромными кулаками, Миша, сияя от радости, что попал на больницу, весело и добродушно рассказывал, как у них в хате собирается общее на больницу, что ни у кого нет постоянного места, каждый отдыхает на свободной в данный момент шконке. — «И каждый себе на уме! — восторженно восклицает Миша. — Думает одно, а говорит совсем другое». — «А делает третье» — добавляю я. — «Вот именно! — радуется формулировке Миша. — А Вы верующий? Это у Вас евангелие?» — «Нет, Михаил, это словарь немецкого языка, но для меня он в каком-то смысле евангелие». — «А это что — немецкая газета? Вы её читаете?» — «Да, занёс от адвоката». — «У Вас вольный или мусорской?» — «Вольный». — «Статья у Вас?» — «Тяжкая». — «Убийство, что ли? На Вас непохоже». — «Нет, экономическая». — «Во! — оживился Миша. — Научите чему-нибудь! Вас как, можно причислить к коммерсантам?» — «Нет, нельзя». — «Ну и слава богу. А то я уж подумал: коммерс. А на коммерса тоже не похоже». — «Чем же тебе, Михаил, коммерс не показался, неужто так его не любишь?» — «Коммерса, Алексей Николаевич, надо доить, и показаться он не может по понятиям. Только вот обломы с ними сплошные: скользкие, съезжают. В руку возьмёшь, а его уже нет. Может, чему научите? У Вас статья, поди, лет на десять тянет?» — «Именно на десять. Но я и статья — вещи не только разные, но и не совместимые. А коммерса, хоть и не знаток я, ты не одолеешь. Ты думаешь, он глупее тебя? Если он заработал большие деньги, значит что-то умеет. И ты думаешь, он не найдёт способ обмануть тебя?» — «А что же делать?» — забеспокоился Миша. — «Не знаю. Но думаю, что дружить. Если он увидит в тебе товарища, то и отношение другое». — «Это я буду дружить с коммерсом?» — «Никто не заставляет. Тебе что нужно? Результат. А что ты думаешь на самом деле — это, кроме тебя, никому знать не обязательно». — «Я понял! — просветлел Миша Ангел. — Я теперь все по-другому поставлю». — «Скоро на волю?» — «Пустяки, лет через шесть. Мне двадцать один. Не возраст! А Вы всегда „Парламент“ курите?» — «По возможности». — «Сейчас, вижу, такая возможность есть?» — «Без проблем» — беру из тумбочки пачку, протягиваю Мише. — «От души». — «На здоровье».
«С коммерсом надо дружить, — слышу через день, как поучает кого-то на другом краю хаты Миша, — он умный и по-другому с ним смысла нет: один раз выдоишь, другой уже не удастся. Все умные. Вон у нас в строгой хате не расслабишься: каждый говорит одно, думает другое, а делает третье!» На оптимистичные речи Миши Ангела равномерно накладывались рассказы Юры, как он зарядил машину и поймал приход. Все это прореживалось многоярусным матом Валеры ООР и доминировало в нестройном гуле голосов каких-то иных арестантов. Мне же думалось: неужели так привык к тюрьме, что ни с кем больше не будет конфликтов? ¬караный бабай! — только подумаешь — сразу получишь: открылись тормоза, и в хату залетели как на крыльях семеро грузин. — «Ой, больно мне! Вах! Как болит голова!» — кричал один, двигаясь к решке и водворяясь на кровати Сергея. А остальные, выкрикивая лозунги по понятиям, разогнали молодёжь. Беззаботность из хаты испарилась в момент, стало тихо, и все как будто видят друг друга впервые. Сергей пошёл гулять по хате, Валера прилёг, Миша Ангел тоже, Юра замолк, а я лежал на кровати и соображал, что моё место прямо под решкой, и, наверно, что-то произойдёт, потому что грузинский десант вёл себя слаженно и хамовито. — «А этот что тут делает? — обратился к хате самый авторитетный из десанта и поставил свой баул мне в ноги. — Он чево, блатной в натуре? Я его насквозь вижу, он пассажир, и его место у тормозов». Никто не отозвался на вопрос, и я понял, что надо собирать остатки здоровья. С кровати я, в таком разрезе, не уйду, и дело добром не кончится. С полчаса прошло в неприязненном напряжении. Никто не знакомился, грузины, кроме своих, никого в упор не видели и наглели на глазах. Наш коллектив распался. Положение усугубилось тем, что Сергей обратился к новенькому: «Я прилягу, ты перейди на другое место». — «А ты кто такой? Ты, генацвале, че на тюрьме — пассажир? Законов не знаешь? Не видишь — у меня голова болит?» — «Ну, если болит, — согласился Сергей, тогда полежи немного. Но мне пора отдыхать». — «Эй, ты че? Тебе? Пора? Отдыхать? Ты видишь: я здесь. Че ты хочешь?» — «Ну, это моё место, — тихо, можно сказать, скромно стал пояснять Сергей, — я здесь отдыхал и прошу тебя перейти на другое место, места ещё есть». — «Ты сам иди в эти места. Моё место у решки. Ты вообще из какой хаты?» — «Я из этой» — также скромно ответил Сергей. — «Ну, так и тусуйся, а я здесь останусь». — «Хорошо, — ответил Сергей. — только не долго» — и отошёл. Самый авторитетный решил закончить расселение:
Вставай, я буду стелить постель.
Ты что, оглох? Я сказал: буду стелить постель.
Это относилось ко мне.
Я уже постелил, — ответил я и закурил от нахлынувшей ненависти.
Что-что?? — раскрыл рот от изумления грузин. — Что ты сказал?
Я сказал, что бельё у меня есть, и моя постель уже застелена.
В могучем рывке с перекошенным лицом грузин бросился на меня, а я, понимая, что он слишком здоров и крепок для меня, рассчитывать ни на что не мог. Все, что у меня было, это — ненависть. Но произошло непредвиденное. Слева метнулась одна фигура, справа другая, их плечи сомкнулись жёстко, как двери вагона метро, и грузин, ударившись о них, отлетел назад. Фигуры разомкнулись. — «Я — Миша Ангел. Из строгой хаты» — сказала первая фигура, подняв могучую длань, готовую как для удара, так и для рукопожатия. — «А я Валера. ООР» — с достоинством отрекомендовалась вторая фигура. Недоумение и страх отразились на лице грузина, он глядел по сторонам, ища поддержки, страдая от унижения. Между тем, рядом оказался и Сергей, и стало особенно заметно, что парень он подстать Мише. Даже Юра подтянулся из своей берлоги.
Дело в том, что мы его немного знаем, — вежливо объяснил Миша Ангел.
Да, — подтвердил Валера ООР.
Если хочешь, — продолжил Михаил, — можешь располагать моей койкой, ты видишь, она тоже недалеко от решки.
Но парень лишь пробормотал что-то и смиренно расположился на свободном месте. После чего грузины затухли как свечки на ветру, и Серегино место освободилось само собой. Всю эту скоропостижную грозу я наблюдал лёжа на кровати, но отчётливо понимал, что опасность была реальной, но на сей раз мне повезло, потому что выяснилось, что в хате у меня есть друзья. Выписали грузин чуть ли не на следующий день. Остался только Малхаз, тот самый, и скоро выяснилось, что, в сущности, он дружелюбный парень, отношения стали приятельскими, и он даже с радостью согласился учить меня грузинскому языку, но учитель из него оказался, к сожалению, никакой.
Пришло время возвращаться на Бутырку. Когда Ирина Николаевна сообщила об этом, я попросил передать Косуле, которому уже запретил показываться мне на глаза, что на Бутырке я согласен быть только на больничке, и не дольше десяти дней; это было мне обещано, наряду с просьбой потерпеть, ибо Суков рассматривает возможность освободить меня под залог. Вызвали к врачу.
Дольше Вас, Павлов, у нас никто и не бывает. Не возражаете?
Нет, не возражаю.
Значит, завтра? Да?
Как чувствуете себя?
И хорошо. Мы вас выписываем под наблюдение невропатолога.
А вот это серьёзная победа. С такой записью в медкарточке на всю столицу в тюрьмах единицы. Это значит, что общак мне противопоказан, и путь на больницу открыт всегда. Шагая из кабинета врачей по светлому коридору к своей камере, я чувствовал, что тропа пошла вниз. Принято считать, что героизм альпинисты проявляют на восхождении. Мне всегда казалось, что настоящий героизм — это подъем груза на перевал в период акклиматизации. Когда, например, рюкзак весит шестьдесят килограммов, и ты его тягаешь на себе под небеса, борясь со слабостью, тошнотой, головной болью, усталостью и отвращением к горам, когда каждя секунда тяжела, а десять часов черепашьего шага вверх становятся длинными до изнеможения. Потом вдруг выясняется, что ты на перевале, дальше только вниз, после чего все твоё существо ни за какие блага не согласно сделать ни шага наверх, но отсутствие такой необходимости даёт благодетельное осознание факта: как хорошо, что дальше будет не так тяжело, хотя и не легко. И солнечный мир гор начинает радовать, как только что прошедшая зубная боль. На больничке Матросской Тишины о солнечном мире можно было лишь вспоминать, но ощущение перевала было явственно. На сборку позвали ночью, уходил я спокойно, без сожалений, сказав всем, что скоро вернусь, и в шутку добавил: койку оставьте за мной.
Никогда не догадаешься, что в тюрьме случайно, что нет. Скорее, закономерно все, и если не информацию, то совокупность твоих реакций на ситуации, на сказанное слово, на жест, на взгляд, на потенциальные и фактические угрозы специалисты изучат со всей внимательностью; не думай, что ты забыт и заброшен в средневековых казематах, хрена лысого — на тебя, как на насекомое, смотрят в увеличительное стекло. И ещё: здесь не жалеют. Я желаю тебе, русский арестант, держаться и быть достойным испытания, выпавшего тебе.
На сборке в уголочке скромно сидит Вова. Встреча и удивляет, и нет. Володя не сильно рад: он знает, что случайность маловероятна и, видимо, судит по себе: а вдруг я призван работать с ним. Поэтому разговор эфемерен, Володе на суд, а тут я. К обоюдному удовольствию, звучит фамилия Павлов, и я ухожу на другую сборку, где все с больницы. Несколько человек после операции, у них известная картина: длинный вертикальный шрам через все брюхо, и ещё не сняты швы, которые ребята озабоченно разглядывают, раздевшись по пояс. Бодрый арестант радостно оповещает всех, что вылечился от сифилиса, и теперь его на общак не отправят, потому что он был на больнице. Ему никто не возражает: гонит. К тому же мысль об общаке занимает каждого. В автозэке народу не много, все молчат и курят, лишь негр шумно протестует, что его везут не туда. Становится понятно, что он из судовых. Теперь, по чьей-то ошибке или умыслу, долго сидеть ему до следующего суда. Негр хорошо говорит по-русски, но охранники и ухом не ведут.
На Бутырке все та же сборка, через которую проходят десятки, сотни тысяч, тысячи тысяч, миллионы арестантов. А сборка не меняется, такая же тусклая под тёмными сводами, пропитанная грязью и людскими страданиями, много повидавшая на своём веку. Здесь опять через неказистую деревянную дверь все по очереди в маленький, чуть менее тусклый врачебный кабинет, в котором врачей двое, среди них узнаю женщину, которая в своё время говорила «мы ещё посмотрим».
Как Вы себя чувствуете, Павлов? Лечение Вам помогло? Или нет? — спросила она, прочитав мою медкарту, и сразу отлегло: интонации говорили в мою пользу.
Да, немного помогло, но случилась маленькая неприятность: час назад пришлось выпрыгивать из машины. Результат видите.
Конвоиры были не в духе и металлической лесенкой для высадки из автозэка пренебрегли. Я указал им на это, и услышал в ответ: «Па-ашел!» Чтобы опередить гада, собравшегося вытолкнуть меня, я выпрыгнул на улицу. В принципе, повезло, так как был туго затянут в бандажный пояс, но все равно перекосило, и я валялся на укатанном снегу, с неприятным удивлением наблюдая, как прыгают на землю ребята с свежезашитыми животами.
Ясно, — сказала женщина и сделала в медкарте запись.
Среди присутствующих на сборке выделялся человек в отглаженном костюме и белой рубашке, явно с воли. Интересуюсь: «По какой статье заехал?» — «Разжигание национальной розни, — говорит дядька, — прямо с демонстрации забрали. Меня уже два раза предупреждали: если буду лезть в политику, посадят. Вот посадили». Забавно. Таких ещё не видел. — «И кто ж предупреждал?» — «Судья. Они дело завели…» — последовал бесконечный рассказ человека на гонках. Короче, з…. парень участкового своей политической активностью. Так что быть костюму не судьба.
В процедуру медосмотра на Бутырке входит осмотр полового члена арестанта. Для этого пришла молодая дама и, стоя за открытой дверью под защитой вертухая, потребовала от всех по очереди (все с тем же непостижимым интересом) снять штаны и предъявить член, а так как освещение и в коридоре неважное, внимательно вглядывалась в объект. Негр стал объяснять, что он ехал на суд, что зовут его не так, как называют, что он здесь по ошибке. Вертухай благосклонно не реагировал. Женщина слушала внимательно и довольно долго, и вдруг как заорёт на все подземелье:
Негр показал. Женщина ушла. Вертухай потребовал шнурки, негр, объясняя, что он ехал на суд, что он здесь по ошибке, стал разуваться.
Он с Матросски, — сказал я, подойдя к двери. Из сто тридцатой камеры. Судовой.
Да? — с интересом откликнулся вертухай. — А зовут его как?
Как тебя зовут? — задал я вопрос негру.
Мухамадом его зовут.
А в карточке не так. Вы вместе приехали? С Матросски?
Мухамад, какая у тебя фамилия? Да, действительно, не та. А по фотографии такой же. Ладно, назад поедешь.
Ближе к ночи перевели на другую сборку. Предыдущая была без шконок, с лавочкой по периметру, здесь же в один ярус шконки, довольно тепло. Тоже знакомое место. Народ образует стихийные группы: братва (естественно, у решки, несмотря на то, что она глухая и дышать там в дыму и чаду тяжело; уже кто-то раздирает на полосы полотенце, поджигает его и делает чифир), ребята с зашитыми животами образуют отдельную группу, наркоманы находят свой общий язык. Я успеваю занять шконку ближе к середине. Рядом два наркомана озабоченно с энтузиазмом толкут какие-то таблетки, по очереди втыкают в вену бабочку и несут свою бесконечную наркоманскую околесицу. От их одинаковых восторженных рассказов о том, как достали, как приготовили, как зарядили и пустили по вене, как поймали приход и т.п., можно одуреть. Зачем им тюрьма, они и так себя наказали. К двоим присоединяется третий и говорит мне:
Ты подвинься, мы тут вместе.
Сам подвинься, — отзываюсь я. Подвигаться неохота: на метр дальше уже слишком воняет от унитаза.
Парень ошеломлён, масса эмоций отражается на его лице, но, не рискуя связываться с бородатым, воздевает руки и выражает крайнюю степень недовольства:
На том конфликт и заканчивается, наркоманы устраиваются втроём на двух шконках. Через несколько часов на сборке воцаряется редкая благодетельная тишина, в которой слышен лишь шорох гоняющих по спящим телам крыс.
Глубокой ночью на продоле раздались пьяные голоса, обстановка резко изменилась, и вот я уже спешу на выход, но так, чтобы не быть первым или последним, по той причине, что на сборку ворвался давний знакомый и с развевающимися ленточками какой-то спецназовской бескозырки пролетел по шконкам, топча тех, кто не успел подняться.
На коридор, бляди! — орал вертухай, встав у двери и встречая каждого ударом в грудь или живот. Мне повезло, я был уже на продоле. Зашитые, вообще медленно передвигавшиеся, оказались среди последних. Можно было только предполагать, что будет дальше, когда первый из зашитых получил удар в живот. Смотреть я не стал. С криками и оскорблениями нас загнали в пустую, страшно холодную камеру с двумя ярусами шконок и массой тараканов. Шконки были как примороженные, сидеть на них решились только зашитые, не говорящие ни слова, мертвенно бледные, бережно державшие руками свои животы. Между прочим, когда их били, ни один из них не проронил ни звука. Глядя на них, создавалось впечатление, что они смотрят за какую-то невидимую нам стену и видят тоже что-то невидимое нам. До утренней проверки, чтобы согреться, ходили по камере, а на проверку нас пригласил все тот же вертухай. Видимо, насытившись, он слегка побил тех, кто ему чем-то не понравился, а не нравилось ему, в основном, то, что на него смотрят, и перегнал нас в другую, уже не столь холодную сборку. На него снизошло благостно-философское настроение, и, пока заходили остальные, вертухай, встав в позу собственника, душевно спрашивал пожилого азербайджанца:
Послушай, Володь, как ты думаешь, почему они такие пиздоголовые? Как ты думаешь, они всегда такими были или со временем стали? А, Володь?
Азербайджанец «Володя», размышляя, вломят ему сейчас или нет, развёл руками.
Ладно, Володь, иди к ним. А все-таки подумай. Интересно.
Так наступила очередная бутырская пятница. Долго ли, коротко ли, а начали поднимать в хаты. Вот здесь и замирает сердце арестанта. Потянулась череда коридоров и закоулков общака, мимо плывут знакомые цифры, и ноль шесть тут, и девять четыре, и обиженки, номера которых знает каждый арестант. Вертухай останавливается, оглашает список, и все — нет человека, летит человек в тартарары, как по заклинанию колдуна. Тень бежит по лицам услышавших свою фамилию, и захлопываются за ними огромные коричневые тормоза. «Нет, меня на спец, я после больницы, меня на общак нельзя» — при каждом удобном случае вслух гонит бывший сифилитик, но и его поглощает утроба общака. А когда туда же уходят и зашитые, я бессильно закрываю глаза, в голове становится тоскливо и пусто. До спеца добирается лишь небольшая группа, и здесь меняется все: вертухай уходит за поворот продола, арестанты растягиваются по коридору, один приникает к шнифтам хаты, зовёт кого-то и быстро сдавленным голосом говорит: «Все договорено, через два дня тебя переведут на больницу». Бредущий последним с огромным баулом бородатый арестант жёлчно разговаривает сам с собой:
Блядь! Опять спец! Опять строгая изоляция!
Давно на тюрьме? — сочувственно интересуется кто-то.
Давно?! — нервно переспрашивает бородатый. — Три года на корпусе ФСБ! Даже в автозэке одного везли!
У тебя курить есть?
Нет у меня ни хуя! Опять, блядь, строгая изоляция!
Тем не менее, парень останавливается и дрожащими руками выбрасывает из баула пачку за пачкой.
От души, братан! Хорош, оставь себе.
Строгая изоляция! — в тоске повторяет парень.
За поворотом продола меня манит пальцем вертухай и, показывая глазами на того, который только что словился с приятелем, тихо говорит:
Он подходил к камере? Разговаривал? О чем?
Хуй его знает, я за ним не пасу. Он вообще сзади меня шёл.
Правильно, — удовлетворённо говорит вертухай, — нельзя закладывать товарищей по несчастью, пошли со мной.
Ну, думаю, будет мне сейчас спец. Но соседний коридор оказался больничным, а камера, в которую я зашёл, одной из тех, где я уже был, и зашёл я в неё как домой, с удовольствием отметив, что народ в хате подобрался приличный, а место под решкой как будто было приготовлено для меня. Через пару часов хату разгрузили, и осталось нас буквально пятеро на семь шконарей. С тех пор, как у меня появился бандажный пояс, который прямо подпадает под определение запрета, он стал, вкупе с немалым сроком на тюрьме и тяжким обвинением, визитной карточкой моей арестантской авторитетности. Даже вертухаи изредка уважительно интересовались, кто мне его разрешил, на что я отвечал, что лично начальник тюрьмы. Затяжная партия перешла в эндшпиль. Дебют и миттельшпиль я мог считать за собой, и очень надеялся провести пешку в ферзи, несмотря на то, что партия играется вслепую, без доски, а соперник у меня — многоглавый дракон, ебнутый на всю башку вампир, корыстный самодур и исторический недоносок — государство Йотенгейм. Итак, немного на Бутырке, потом снова на Матросску, а дальше на суд и — или на свободу, или к новым голодовкам.
В хате обреталась, по большей части, молодёжь. Был и совершенно напуганный человек постарше, похожий на якута, не говорящий по-русски, но с неуловимо-властными манерами, выказывающими человека не простого. Напуганный — сказано не верно, потрясённый — правильно. Что-то он пытался объяснить по-английски, но хата, включая меня, ни в зуб ногой. Тогда дядька достал газетную вырезку, и из статьи стало ясно, что он — вице-мэр города Багио, известнейший филиппинский врач в области нетрадиционной медицины, приехал в Россию к русской жене и получил из-за неудачной операции обвинение в умышленном убийстве. Жестами вице-мэр города Багио объяснил мне, что перед этим он был в каком-то страшном месте, где творятся нечеловеческие ужасы, там у него случился сердечный приступ, и он очнулся здесь. Несложно было понять, что доктор побывал на общаке. Что ж, такая у тебя судьба, доктор. Беседовали мы долго, выглядело, наверно, смешно, но мы понимали друг друга. Ночью одному парнишке с больной печенью и сердечной недостаточностью стало плохо. Парень позеленел, почти перестал дышать. Я проверил его пульс, он был слабым, с заметными перебоями. Было видно, что парень умирает. Мы забарабанили в тормоза, старшой отозвался и, довольно сочувственно, сказал, что до утра шуметь без толку: врачей нет. — «А дежурный?!» — закричали мы. — «Пойду, поищу». — Через некоторое время старшой вернулся и вполне определённо сказал: «Нет, ребята, бесполезно». Я посмотрел на филиппинца. Тот отрицательно покачал головой. Я ему: «Неужели не можешь?!» Несколько секунд он раздумывал с опущенными веками, потом решительно поднялся и очень доходчиво жестами объяснил всем, что все, что он может сделать, это пощупать пульс, и ничего больше. И посмотрел мне в глаза. «Давай, не бойся» — ответил взглядом я. С этой секунды филиппинец преобразился, лицо приняло неожиданно властное выражение и застыло как маска. Он сделал жест: нужны часы. Часы были у меня. Филиппинец взял руку больного, погрузился в созерцание циферблата. В течение одной минуты щеки больного порозовели, он задышал ровно, открыл глаза. А филиппинец отпустил его руку, отдал мне часы и выразительно пожал плечами: пульс, мол, нормальный, повода для беспокойства нет. Необычное выражение лица врача исчезло. Через пять минут парень смог выпить воды, а через час сидел за дубком и разговаривал. Филиппинец что-то писал в тетрадь и молился; оказалось, он христианской веры. Приходил вертухай, интересовался, как там у нас. — «Вот видите, а вы шумели: „Умирает!“ Обошлось же». На лампочку под потолком надели коробку от блока сигарет, в камере воцарился приятный полумрак, и все залегли, кто как мог, на неизменно голые шконки и заснули.
Когда заскрежетали к проверке тормоза, не все отреагировали сразу. Почти воскресший ночью парнишка, приподнявшись на шконке, пытался понять происходящее. Остальные уже стояли с руками за спину. Вошёл огромный мусор, совершенно добродушного виду. Так же добродушно оглядел всех и не торопясь сгрёб левой рукой уже сидевшего, но ещё не вставшего парня за грудки, без труда приподнял и, тяжёлым маятником отведя правую руку, пару раз бесшумно двинул парня кулачищем в живот и бросил на пол.
Что же вы, господа, не уважаете представителя власти? Я — представляю власть.
Арестанты стояли, молча усваивая науку ненависти.
С тех пор, как пришлось прыгнуть из автозэка, гулять я не ходил, передвигаться удавалось едва-едва, поэтому развлечений оставалось искать в шашках, шахматах, нардах, сигаретах и надеждах. Происходили события, велись беседы, переживались чувства и плавились мысли, текла жизнь арестанта, и все, её наполнявшее, не стоило шага по ночному Арбату. На пути, конечно, к международному аэропорту.
Это удивительное государство у всего цивилизованного мира вызывает чувство глубокого недоумения. Русский арестант, сидит ли за что-то, или, как говорят все следственно-арестованные, ни за что, тоже чувствует себя в зазеркалье, по ту сторону действительности, как Алиса в стране чудес, с той лишь разницей, что зеркала и чудеса в русском цугундере грязные и подванивают. Но здесь происходит акт массового очищения грязью, и люди становятся людьми, как никогда и нигде на просторах России (из чего можно заключить, что мудрые правители проводят по отношению к своему народу единственно верную политику).
Как-то раз тюремным вечерком делать было нечего, и я взялся за научные опыты, с целью вовлечь в них филлипинца — думал, может, удастся увидеть что-либо необычное. При весьма ограниченных технических средствах, среди холодных чёрных шконок бутырской больнички, на свет была извлечена иголка. Если у арестанта есть иголка, к нему обращаются, на него смотрят положительно. У меня иголка была. Далее все по Перельману, «Занимательная физика». Сложенный вчетверо и развёрнутый листок бумаги центральной точкой помещается на острие иголки (её воткнули вверх ногами в обложку тетради. Арестанты собрались вокруг, всем было любопытно, что будет дальше. Объяснять я ничего не стал, лишь велел никому не шевелиться и аккуратно дышать, чтобы не было ни дуновения ветерка. Смысл в том, чтобы поднести к листку на иголке ладонь, как бы прикрывая ею огонь свечи от ветра. В зависимости от силы биополя человека, листок может начать вращение. Я попросил поднести руку парня, чудесно исцелившегося ночью и битого утром. Выглядел он как амёба, и листок на него не отреагировал, даже не шелохнулся. Тогда попробовал я. Листок сделал оборот вокруг оси. Всем стало интересно, по очереди потянулись руки. Как и следовало ожидать, в глазах филлипинца вспыхнула искорка, он решительно подошёл, протянул руку. Жест его был чуть-чуть нетерпеливым, назидательным и уверенным: мол, вот так надо. Он оказался прав. Листок под ладонью доктора завертелся быстро и равномерно, несмотря на то, что был из тяжёлой тетрадной бумаги, а не из папиросной, как рекомендует Перельман. От руки филлипинца явно исходила ровная сильная энергия. Арестанты восхищённо смотрели, как кружится листок. Цель эксперимента была достигнута. Трудно объяснить, почему, но возникший энтузиазм дал мне уверенность, что я смогу сделать нечто иное, практически невероятное, о чем лишь читал, но я не сомневался. Дав знак, чтобы никто не шевелился, я протянул руку над листком, сантиметрах в тридцати-сорока над ним, и попытался почувствовать его. Это удалось. Пространство между ладонью и листком сделалось чуть плотнее воздуха, и я стал скручивать его по часовой стрелке, заставляя повиноваться, вкладывая столько же сил, как если бы туго закручивал кран. Могло бы выглядеть комично, если бы не произошло то, от чего захолонуло в груди: листок дёрнулся и стал вращаться с той же скоростью, с которой поворачивалась ладонь со скрюченными от напряжения пальцами. Не верилось глазам, и я стал скручивать пространство против часовой стрелки. Листок послушно, хотя и на крайнем моменте напряжения, пошёл против часовой стрелки. Чтобы получить полное доказательство, я крутанул его ещё раз по часовой. Сомнений не осталось, сил тоже. Я поднял взгляд. Все молчали. Филлипинец побледнел и выглядел взволнованным. «Все, — сказал я, — на сегодня хватит» — и все, по-прежнему молча, разошлись. Филлипинец достал тетрадь и быстрым крупным почерком весь вечер самоуглублённо писал в ней.
Бутырское утро свеженько напомнило нам, что никакие удивительные способности и бывшие заслуги не помешают нам встать перед проверяющим с руками за спину, а вся наша свобода воли — это молчать. — «У вас все в порядке? — спросил проверяющий. — Что молчите? Я спрашиваю, все ли в порядке. Молчите? Ну, молчите…» Что ж, за это на проверке не бьют. Вызовут «слегка» — там другое дело. Филлипинца заказали с вещами. Трясущимися руками бедный доктор стал собирать баул, будучи, видимо, уверен, что его снова отведут в какое-то страшное место. Открылись тормоза, и вертух, с утра недовольный чем-то, просящим тоном сказал другому: «Слушай, отведи этого мудака, ладно?» — «Куда? К иностранцам?» — «Ну. Думали, якут. Эй, ты, ты кто там? Ладно, давай выходи, хули встал в дверях». Так мы расстались с мэром города Багио господином Хуаном Лабо. — «Такая шняга» — заметил кто-то, когда захлопнулись тормоза. «Такая страна» — говорил знакомый американец, объясняя тем самым российские странности, но тогда ни он, ни я ещё не знали, что правильнее говорить: такая шняга.
А время шло, в нашей хате не лечили никого, ребята собрались по преимуществу сыновья своих родителей, т.е. бабки за них двинули, за что наказание ожидалось минимальное. Наш болезный и битый съездил на суд — «на меру». Меру ему не изменили. Судья задала провокационный вопрос: считает ли обвиняемый себя виновным, и парень с горячностью ответил: «Нет!» Я сутки потратил, чтобы вбить в его башку: о виновности «на мере» ни слова. Однако парень, как истинный арестант, мне не поверил. А шансы у него были: самое лёгкое обвинение в хранении незначительного количества наркоты. Но — хотел бы я видеть того, кто умеет учиться на чужих ошибках. Встречи с адвокатом стали реже (все-таки не удобно было напрягать Ирину Николаевну лишними посещениями тюрьмы, входя в которую, как она призналась позже, адвокат не может быть уверен, что выйдет из неё); уважаемый следователь пропал прочно; но было ясно одно: я побеждаю, идя по единственно возможному медленному пути: невидимые лица используют невидимые связи, а умеренные, но убедительные угрозы Косуле обеспечивают путь на больницу в матросскую Тишину, куда в одно прекрасное утро меня повезли снова.
Этап на больницу сопровождается упрощённой процедурой сдачи казенки, прямо тут, на продоле, отчего чувствуешь неизменное волнение: всему вопреки, а вдруг свобода? О чем ещё мечтать арестанту. Самая важная забота — убедиться, что едешь на больницу, а не на общак, поэтому сданная казенка успокаивает, к тому же вопрос, что говорить на Матросске, уже не страшит; чувствовать себя в привилегированном положении неистребимо приятно даже в тюрьме. На первом этаже я оказался в одиночке, но не в стакане, а с лавочкой. Позже подсадили парня, в боксе стало тесно, но мы, естественно, закурили, покрыв туманом жёлтую лампочку, грязно-зеленые стены и друг друга. — «Ты на больницу?» — поинтересовался парень, глядя на полотенце, которым я перетянул поясницу (пояс отобрали и сказали, что отдадут позже). — «Точно не знаю. Видимо, да. Если не трудно, помоги затянуть потуже. А ты?» — «Я на волю, срок статьи истёк». Вот это да! Этот парень сейчас выйдет из тюрьмы и пойдёт сам, куда захочет. Вот это — да… — «Сам-то откуда?» — «Из спидовой хаты» — тут, по правде сказать, передёрнуло, и я постарался отодвинуться от соседа. — «То есть, на Бутырке тоже есть спидовые хаты?» — «Конечно» — парень перечислил, какие. — «Заболел в тюрьме?» — «Нет, на воле. У нас компания тесная, всегда один баян был». — «На воле сможешь позвонить?» — «Да, давай телефон». Тут я задумался, а что это я в одиночке вдруг встречаюсь с тем, кто уходит на волю. — «Нет, — говорю, — не надо ничего».
Этап оказался немногочисленным, поместился в УАЗ, как было однажды. Каждого заковали в наручники, отчего ожидаемая радость увидеть Москву померкла. Когда ты в наручниках, очень хочется убивать тех, кто тебе их предназначил, поэтому ни в окно, ни на мусора с автоматом во время езды смотреть не хотелось. На морозном солнечном дворе Матросской Тишины самочувствие улучшилось. Наручники сняли и дали возможность постоять на воздухе, где взгляд, конечно же, стремится в небо, белесое высокое пустое московское небо. Сбоку опоры какой-то постройки. Опускаю глаза и сталкиваюсь взглядом со старым знакомым. Вася! Кот, повидав тысячи арестантов, узнает меня сразу, это очевидно. И поступает чисто по-арестантски: не видит меня в упор и медленно исчезает за небольшой опорой. Делаю шаг в сторону, так же неторопливо, как Вася, чтобы не привлечь ничьего внимания и увидеть за колонной кота. Вася, видя такое дело, так же аккуратно делает шаг назад, и опять его не видно. Знает серый, что от этого арестанта хорошего ждать нельзя, ещё возьмёт за шкибот и отнесёт в хату два два восемь. Получается, не освободился Вася, а всего лишь уехал на зону. Впрочем, за высокими стенами он как дома. Рождённый в тюрьме, как истинный россиянин, он должен быть патриотом. Вася, Вася… Шняга все это. Самые большие патриоты, Вася, это государственные ворюги, да и то потому, что красть в других местах не умеют. Держи хвост трубой, беги за ворота, когда поедет автозэк, тебя пропустят, и узнаешь другой мир, где живут свободные кошки, где дурманят невиданные тобой доселе краски и запахи, где тебя ждёт справедливая борьба за жизнь и за все, что ты хочешь. Беги, Вася.
Приёмный кабинет преодолевается автоматически. Приёмщица смотрит в историю болезни, задаёт вопрос, ответа не слушает, и — все, Павлов, не мешайте, идите на сборку, сейчас отведут во второе отделение. Тюремная Мекка достигнута опять. С каким спокойным сердцем шагаешь за вертухаем. Что шагаешь, это, конечно, кажется, на самом деле плетёшься, и вертухай терпеливо ждёт, когда дошкандыбаешь до очередной двери. В знакомом поднебесном коридоре останавливаемся не перед той дверью, где я был раньше. — «Слушай, старшой, давай меня в двадцатую, я недавно оттуда, меня там ждут». Несмотря на то, что камера для меня определена, старшой самым удивительным образом соглашается, и мы идём дальше. — «Сюда?» — «Да, в самый раз».
О-о! Какие люди без охраны! — восклицает Валера О.О.Р.
Удивлённо смотрит Малхаз; Серёга невозмутим, но явно рад.
А вот и место твоё. Видишь — свободно. Мы его тебе оставили, — серьёзно и с достоинством говорит Валера. Ну, разве это не кайф, господа? А тут и чайку, и сигарет хороших. Не грех задымить наши грешные души и, ясное дело, с этапа отдохнуть, слушая как Валера, будучи одарён музыкально, поёт песни собственного сочинения.
Одна из песен Валеры О.О.Р.
Мы с ним ломали хлеб и чифирили,
Его считали мы за своего,
На суд Прогоном вызвали его.
На суд Прогоном вызвали его.
Я в лёгкие воткнул ему заточку,
Он хрипло закусил её ребром.
И вспомнил я про маму и про дочку,
И пот со лба я вытер рукавом.
Потом пришёл начальничек с проверкой,
Он заявил, что всем теперь п….
Что будет делать он со сводкою и сверкой,
И жмурика девать ему куда.
А я на шконку на прощание прилягу
На крытой долго тянутся года.
Такая это шняга, господа.
Такая это шняга, господа!
Братва не выдаст потеряет зубы,
Здоровье потеряет, кто ни есть.
Когда на сборке долго бить нас будут
Узнает каждый, что такое честь.
Я, если выживу, скажу как под присягой
Уйду в бега, покину родину, когда
Слабинку даст в заборе эта шняга,
Ну, а пока прощайте, господа.
Слабинку даст в заборе эта шняга,
Не поминайте лихом, господа!
На тюремном дворе стоял декабрь-месяц. Продержаться бы до января, загадал я на удачу. Удастся встретить Новый Год на Матросске — все будет хорошо. Перед Серпами загадывал в автозэке, но не сбылось. И не могло сбыться, потому что на Серпы загадывал и раньше, на малом спецу: если выиграю серию шахматных партий у подсадного дяденьки милиционера, то Серпы будут в мою пользу. Но проиграл. А значит, загадывание в автозэке недействительно: два раза на одно и то же загадывать нельзя.
В борьбе с тюрьмой и временем определились бухты радости, куда шторма не доходили: например, размышления о том, как вернусь. Часто вспоминалось:
«Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь…»
Через месяц или через десять лет, но когда-нибудь вернусь же.
Жизнь в общей хате больницы Матросской Тишины потекла как золотая осень, ярко, доброжелательно и спокойно; и все знали — это не надолго. Как зацветшие в неволе цветы, мы, судьбою брошенные в четыре стены арестанты, почти расслабились, наслаждаясь моментом, воспоминания о вольной жизни зазвучали как легенды. Позже, выйдя на сборку, Валера ООР самым положительным образом отзовется о проведенном времени, и сборка, как мембрана, резонансом донесет нам его рассказы через вновь зашедших или соседей. Саша-банк, неутомимый в разговорах, никогда не ругающийся матом банкир, пришлет на хату через больничных шнырей фруктовую передачу с теплыми пожеланиями. Многие будут вспоминать это время, а кое-кто, дай бог, уже и на свободе. Время пришло, и хату покинули: Валера ООР, Миша Ангел, Малхаз, Юра-наркоман, Саша-банк. Остались мы с Серегой, и не успели мы прислушаться к зеленой тишине, как на продоле загремела музыка, раскрылись тормоза, и, с орущей спидолой в руках, зашел новый полосатый — Серега. Покрытый синим орнаментом наколок, Серега разухабисто расположился в хате и, первым делом, изучил творческое наследие Юры-наркомана, а именно: съел одновременно двадцать четыре колеса фенозепама, после чего хата забыла про сон. Радиоприемник советских времен (а Серега с тех времен почти и не вылезает из тюрем) исторгал такую музыку, что трудно было догадаться, почему ее не слышат вертухаи. Если Серега, сверкая глазами, огромными как блюдца, хотел справить малую нужду, то можно было предположить, что в каждом углу горит по пожару, а пожарники уже приехали. В буйном недовольстве чем-то, Серега разбил приемник об пол, хорошенько растоптал его и взялся ремонтировать, потом опять разбил и поставил хату на уши. Перло Серегу четыре дня, в течение которых он ловил такой ломовой кайф, что претензий к нему не было ни у кого. Попросив его о какой-то мелочи, я услышал в ответ: «А я скажу, что ты меня хотел убить». Об этом я рассказал ему, когда он протрезвел. — «Правда, что-ли? — изумился полосатый. — Ты слышал?» — вопрос был адресован моему соседу. — «Нет, я не слышал» — несколько неожиданно для меня ответил мой старый знакомый. — «Заточку положи» — примирительно и уверенно перешел в наступление полосатый. И впрямь, я подзабылся, разрезая буханку хлеба: нельзя разговаривать, держа в руке нож. Но всем было ясно, что я без претензий, и все тут же устаканилось. Тем не менее, эпизод прозвучал как напоминание: осторожность — первое дело, поэтому я напрочь отказался от заманчивой идеи добыть у адвоката денег, а у вертухаев бутылку коньяку. Не успел Серега как следует протрезветь, как его из больницы выписали. Ушел на этап и мой давний сосед, другой Серега. Я подогнал ему, что мог, он мне оставил на память кружку, ручку которой оплел пластиковой трубкой от больничной капельницы. Обменялись адресами. Бог знает, пригодятся ли. Прощания скупы. Тот, кто уходит, чувствует дыхание судьбы и перемен. Тот, кто остается — только судьбы. Прощание есть прощание — скорее всего, навсегда. В хате стало неуютно, повеяло событиями, предчувствие которых оправдалось сразу: хату заполнили новым народом, большинство из которых оказалось наркоманами, и пошло, и поехало. Тут же нашлось лавэ, по всей больнице, на тубонар, даже на общак, были разосланы малявы с призывом откликнуться и прислать заразы. Кто-то откликнулся, деньги поплыли по веревочным дорогам куда-то, и, как в сказке, из окошка приехала наркота. Деловито и целеустремленно, кто-то что-то мял, разводил, выпаривал, отстаивал. В результате получилась темная гадость, которую набрали в баян, предварительно продезинфицировав его холодной водой из-под крана, и стали по очереди колоться, не испытывая в маниакальном стремлении ровным счетом никаких опасений. Обколовшаяся хата поймала приход и выглядела, как после Бородинского сражения. Я чувствовал себя неуютно и с неприязнью ожидал дальнейших движений, в любой момент хату могли пустить под дубинал, невзирая на то, что это больница. Мой статус никак не соответствовал создавшемуся положению; или меня подставляют, или я буду переведен в другое место. Оправдалось второе предположение: заказали с вещами, и я оказался в маленькой, на восемь коек, часть из которых, как шконки, друг над другом, конечно же, грязной и заполненной тараканами, камере, где, впрочем, несмотря на то, что народу было больше, чем коек, расположился на удобном месте под решкой, и стал привыкать к новым людям. После просторной хаты сужение пространства болезненно отзывается на самочувствии, и ненависть к тюрьме вспыхивает с новой силой, отвращение становится невыносимым, но — это обычное состояние арестанта.
Первая ночь на новом месте — бессонная. Все приглядываются к тебе, ты ко всем. Контингент средний, поэтому разговаривать не обязательно, но уши не заткнёшь (а иногда хочется), и я слушаю парня из Смоленска, который рассказывает о том, что прошлой ночью в соседней хате молоденький парнишка всю ночь ебал матрас, меняя позы и разговаривая с ним как с женщиной, а под утро собрал свои вещи и поджёг их, оставаясь голым, а когда в хату влетел мусор, — бросился на него с иголкой, воображая что это шпага. Мусор применил «черёмуху» — слезоточивый газ, и вся хата получила заряд бодрости. Наверно это был тот малый, которого я видел на продоле, идя с вызова от адвоката. Женщина в белом халате спрашивала, зачем он ел спички, а парень убеждённо и тоскливо отвечал: «Чтобы поседели волосы». И убедительно отвечал. Или артист, или крыша съехала. Или то и другое. Однако никто в хате к этому с иронией не отнёсся: гарантий нет ни для кого. Есть возможность порадоваться тому, что ты ещё в своём уме. По этому случаю, смоленский начал радоваться жизни, как умел, т.е. стал рассказывать анекдоты. Рассказывал он их до утра, без передышки, выбирая самые грязные; я и не знал, что их столько. Иногда рассказчик все же утомлялся и брал музыкальную паузу. — «Тихо у нас в лесу, — радостно пел он известные народные куплеты, — только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сук, вот и не спит барсук». На устное народное творчество откликнулся лишь кто-то один, остальные молча терпели. Но поддержки оказалось достаточно. Завернув очередную похабщину в стиле дебильного натурализма, смоленский глумливо смеялся и с новой силой запевал:
Тихо у нас в лесу,
только не спит лиса.
Знает лиса, что в жопе оса,
вот и не спит лиса.
Когда маразм достиг апогея, в хате пели на два голоса:
Тихо у нас в лесу,
только не спят дрозды.
Знают дрозды, что получат пизды,
вот и не спят дрозды.
Ближе к утренней проверке смоленский иссяк, а я не понимал, в какой я больнице, и в голове навязчиво сидела одна из песен:
Как Ивану Кузмичу
в жопу вставили свечу.
Ты гори, гори, свеча,
У Ивана Кузмича!
Все бы ещё полбеды, но проснулся напротив некий горный орёл. Проснулся, расправил крылья, достал из тумбочки баян, с любовью оглядел его, спрятал в баул и, как будто только что остановился, продолжил с мужественным акцентом:
А я и спрашиваю! Что она делала в хате? Сосала. Мы её на вертолёт пригласили, так, в гости, думали, она отдыхала, а она нет — сосала. Сама сказала. Мы подумали, подумали — да, вроде красивая. Шлюха, конечно, но ничего. Мы её и спрашиваем, а как мол с нами. А она: «С удовольствием». Полхаты её за ночь отымели.
И в таком духе не переставая, с перерывом на проверку, весь божий день. Практически без вариаций. Господа, цените свободу. Лучшая из свобод — не слушать мудаков.
По прошествии изрядного времени стало понятно, что речь идёт не о проститутке, доставленной в хату (очень редко, дорого, но бывает), а о петухе.
К великому моему облегчению, горный орёл на следующее утро с больнички был выписан и, хлопая крыльями, улетел.
Я ощущал себя в привилегированном положении на единственно верной дороге, где в конце тоннеля обязательно есть свет, надо лишь дойти. То, что не всем это удаётся, со всей очевидностью стало ясно в предыдущей хате. За сутки перед тем, как перевели сюда, в хату занесли мужика без сознания, потом он начал стонать, хрипеть, к ночи заметался в бреду, упал с кровати, вертухайша пристегнула его наручниками к железяке и больше на наши призывы не реагировала, сказав, что до утра ничего сделать нельзя. Под утро у него началась агония, и на рассвете он умер. Почему-то я был уверен, что после этого меня закажут с вещами, что и произошло.
Смрадная камера с извечными тараканами, узкий свет грязной лампочки, растекающийся по грязным зелёным стенам, сжатое пространство, проклятый дальняк за полуистлевшей занавеской, бомжи, которых вечно призывают помыться и побыть людьми хотя бы в тюрьме все это может довести до бешенства, и доводит, но если раньше я думал, что альпинизм школа терпения, то теперь считаю, что до тюрьмы ему далеко. Мучит жажда общения; дебильное общество как петля на шее. Зашедший в хату азербайджанец усиленно изображал из себя больного, как в анекдоте добавлял к словам частицу «мультур» (потому, видать, что культур-мультур не хватает) и злостно портил воздух. Ночью через решку заехал груз с общака. Пачка хороших сигарет, перевязанная и переклеенная, предназначалась Смоленскому. Общий корпус оказал ему уважение, и пачка как символ легла на его тумбочку, а её хозяин удовлетворённо закимарил. Глубокой ночью, когда дремали все, азербайджанец, тусующийся у тормозов, кошачьим шагом двинулся к решке, запустил пальцы в пачку и, отойдя к тормозам, закурил.
Але, мультур, тебя кто-то угощал? не выдержал я.
Просто я хочу курить.
Пару секунд, открыв глаза, Смоленский размышлял, потом резко поднялся, схватил литровый фаныч, в два прыжка оказался у тормозов и вмазал азербайджанцу по балде. Звук был как металлом по дереву. С этого момента болеть он перестал и воздух не портил. Уходя из хаты, он выскользнул как крыса, будто опасаясь, что не выпустят.
На смену уходящему тут же приходит другой, двоим-троим постоянно не хватает места, но ко мне это не относится. Никто не договаривается, кому спать, кому бодрствовать, это происходит само собой (в строгих хатах и у полосатых кто хочет может прилечь на свободную в данный момент шконку), нельзя сказать, что ущемляются права слабого, нет, учитывается состояние здоровья каждого арестанта и его положение, которое тем прочнее, чем дольше арестант на тюрьме.
К денежному пирогу, видимо, были допущены все-таки не все: тощая и злобная врачиха старалась уличить меня в симуляции, устраивая неожиданные медосмотры, хотя при наличии рентгеновского снимка позвоночника это было бессмысленно (но и снимок пару раз теряли; продавали, наверно). Медосмотры ее разочаровывали, т.к. всегда на мне обнаруживался затянутый бандажный пояс, носить который здоровому человеку терпения не хватит. Через адвоката стали приходить известия, что я подбиваю арестантов к неповиновению и требую от персонала привилегий. Замкнувшись, я учил наизусть словарь немецкого языка и жадно вчитывался в хрестоматию по литературе, найденную под кроватью. Откровением прозвучало с грязных потрепанных страниц стихотворение Симонова «Жди меня и я вернусь» символ переживаний в неволе. «Можно я почитаю?» обратился ко мне парнишка, недавно зашедший в хату как призрак, а теперь повеселевший. Выходя на уколы, я видел, как ему хмурый врач в военной форме с наброшенным поверх халатом проткнул в коридоре иглой от шприца легкие, и через пластиковую трубочку в банку потекла коричневая жидкость. Воды из легких парню откачали 5 литров, и он ожил, рассказал, как в Бутырке на него не обращали внимания и согласились сделать флюорографию только когда стал отключаться по-серьезному. С его лица сошла бледность, блестящим счастливым взглядом он всматривался в горизонт. Прочитав книгу, он сказал: «Я знаю, что теперь делать. Я буду учиться» и внимательно слушал мои рассказы о литературе. Зашел еще один юный арестант. Этот вкатился в хату как счастливый школьник, сдавший все экзамены. Еще не захлопнулась камерная дверь, а уже начался возбужденный рассказ о приключениях: как поймали после четырех лет в розыске; не выдержав, парень позвонил матери по телефону, сказал, что зайдет на пять минут, тут его и взяли (прослушивание телефонов с советских времен остается одним из самых действенных способов слежки, на это государство денег не жалеет один черт народные что бы там ни говорили об обратном. Рассказал, как повезли на следственный эксперимент на берег водохранилища, как, будучи в наручниках, дернул через капустное поле. «Прикольно! Я бегу, мусора стреляют… Не попали. Но догнали. Прикольно!» Рассказал и о том, как вертухай отмочил его на сборке до полусмерти за то, что отказался отдать кожаную куртку, подарок матери. Без тени страха повествовал: «Вертухай меня на этапе в Бутырке увидел, ага, говорит, на больничку съехал, ничего, я тебя подожду, приедешь на сборке повстречаемся. Прикольно! Жаль только, здесь не надолго. Но ничего, теперь будет легче. А пока хоть на рогах посижу перед Бутыркой». Под рогами подразумевалось деревянное сиденье на унитазе, старательно обтянутое грязными тряпками вещь, для тюрьмы невиданная. В предыдущей, большой, камере, которую врачи называли общей, и где народу было вдвое меньше, чем коек, отчего на общую она совсем не походила, был просторный дальняк вокзального типа, там можно было помыться, накипятив воды; в камере с унитазом это сложнее, в некоторых, например в девять четыре на Бутырке, вовсе мыться было нельзя из-за перенаселенности и напряженности отношений. Унитазы отдельная тюремная песня, на сборках они такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать, на спецу поприличнее, а на общаке смердят по определению, будучи в употреблении круглые сутки. Не то что прикасаться, но и приближаться к ним не хочется. Вот и порадовала парня столь исключительная возможность, хотя и вряд ли можно разделить его радость. Иногда канализация используется для дороги. То есть из верхней хаты в унитаз проталкивают на веревке «коня», вытаскивают через очко в нижней хате, выловив удочкой или рукой, после чего, протягивая эту веревку, переправляют через канализационную трубу грузы, запаянные в полиэтилен. Неплохим переговорным устройством служит иногда и раковина, в нее можно говорить, и слышно из нее неплохо. Кроме насущных потребностей, столь замысловатыми путями поддерживается и жажда общения характерная черта арестанта. Постепенно обнаружилось, что хата полна молодежи, пара лежачих, пара с водой в легких, остальные как обычно (за деньги). Атмосфера беззаботная. Но как-то раз ближе к ночи открылись тормоза, и вертухаи внесли мужика без сознания. Что он умрет, было ясно сразу. Тот, предыдущий, тоже был по-особенному бледен, точно как этот. Наутро в камеру зашла врач, моя лечащая, и долго пыталась привести мужика в чувство, сокрушаясь, что нет нужного лекарства; обычно врачи в камеру не заходят, что бы в ней ни случилось. «Володя! Володя! Ты меня слышишь? Володя! Не уходи, оставайся здесь!» говорила женщина, теребя больного по щекам, но тот хрипел и явно оставаться отказывался. Женщина ушла, вернулась, сделала больному укол. «Что с ним будет?» встревожилась молодёжь. «Ничего. Все будет нормально» отрешённо ответила уходя врач. Сначала мужик притих, но через несколько часов застонал, заметался, был пристегнут наручниками к кровати, чтоб не ползал, ночью забился в агонии и умер. До проверки труп оставался в камере. После проверки все молча курили, разговор не клеился, а к полудню снова открылись тормоза, и вертухаи с больничным шнырем внесли ещё одного, и было ясно, что и этот не жилец. Его тоже поместили на ближнюю к дверям кровать, можно сказать кровать смертников. «Опять к вам, сказала врач, взглянув на меня. Ничего не поделаешь лучшая камера, пусть хоть здесь немного побудет». Лучшая это значит менее грязная, благодаря тому, что кто-то в ней сидит долго и хоть как-то заботится о чистоте. В нашем случае мы приобщили к труду бомжа, предварительно заставив его постираться и помыться. «Ты хоть в тюрьме побудь человеком» наставляли его арестанты, и он послушно становился им.
Принесённый в хату мужик бредил громко, на кого-то кричал, кого-то звал, с кем-то не соглашался, упал с кровати, корчился на полу в судорогах, будто его раздирали бесы, старался ползти к решке, обильно исходя отвратительной и почему-то вызывающей у всех страх пеной изо рта. Подойти к нему не решался никто, и он как живой кошмар выполз на середину, загребая скрюченными пальцами воздух и со скрежетом царапая иссиня-чёрными ногтями пол. Достучались в тормоза до вертухая, и тот оказал первую помощь, т.е. отволок мужика за ногу к двери и приковал наручниками к кровати. Таков удел умирающего в тюремной больнице. Конец ХХ века, Москва, Россия, Президент, интенсивно интегрирующийся в Европу и толпа мохнатых и лысых монстров за его спиной, вожделенно готовая воткнуть свою задницу в грязно-кровавую лужу на троне, являющим собой ночной горшок из чистого золота; а что в горшке? Вся страна. Если когда-нибудь я доживу до свободы, пешком уйду, уползу, убегу, что угодно. На вас, дорогие россияне, я уже насмотрелся. «Нет! Что вы! воскликнет читатель, все люди одинаковы, Вы заблуждаетесь! Наши люди даже лучше, это же наши люди!» Нет, господа, не одинаковы. Одинаковые люди по-разному не живут.
СТАРЫЙ ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК ИЛИ ДЛИННЫЙ ДЕКАБРЬ
Месяц декабрь растянулся во времени необычайно. Люди менялись, а я оставался, побеждая время и тараканов, а главное чувствуя себя лучше. Пару раз поднимался на крышу на прогулку, но свидание с небом оказалось таким же тяжёлым как свидание с матерью через решётку. Впрочем, от свидания я отказался, потому что оно предлагалось следователем только в обмен на признание виновности, хотя бы частичной, этот маленький, но достоверный факт объяснил мне наглядно, почему арестанты считают мусоров суками. Пребывание на кресте даёт весьма живое представление о тюрьме, в связи с калейдоскопичностью событий и большим количеством проходящих через эту Мекку. Вот только что заехали в хату новенькие, а утром, будучи потрясены увиденной ночью агонией и смертью арестанта, между прочим находившегося в следственном изоляторе в связи с мелкой кражей, дружно заявили протест. Почему-то в этот раз никто из вертухаев к трупу не прикасался, на помощь больничному шнырю были призваны мы, но помогать отказались. «Что, нет среди вас настоящих мужчин? Хотите, чтобы я его отнесла? вопрошала врач, почему-то глядя мне в глаза. Вы тоже отказываетесь?» Я молчал. Кто-то не удержался и сказал, что он думает о тюремном начальстве, другой его поддержал и сказал, что он думает о тюремных врачах, третий, на общей волне гнева, сказал, что он думает… и т.д. Рассерженная лечащая сделала шаг в камеру, и, будь она не женщиной, была бы драка. «А Вы что думаете? Вы так же, как они, думаете?» обратилась ко мне врач. Я молчал. «Нет, Вы скажите!» Я молчал. «Я знаю, Вы ещё хуже думаете! Да?» Я молчал. В конце концов с трупом справился шнырь и призванный из другой камеры арестант, а вертухай через какой-нибудь час зачитал список, кому готовиться с вещами. Не было в нем меня и ещё тех, кто тоже молчал. Сегодня не могу с уверенностью сказать, кто из нас всех был прав. Сегодня я откладываю в сторону перо, смотрю в окно альпийского домика, слышу как в долине шумят автомобили, проезжая по горным дорогам на залитых предвечерним солнцем склонах; с удовольствием прослеживаю линию хребтов с их лугами, лесами и скалами, вижу их бытие под синим небом. У соседней хаты, а здесь они называются именно так, дети разводят огонь на выложенной камнями площадке в уютном дворе без всякого забора, ко мне в комнату проникает лёгкий дымок костра, неслышный ветерок колышет летние косы берёз, пушистые сосны и не трогает гордые ели. Дети болтают и смеются. Глядя на них, невольно хочется улыбнуться. Солнце уже освещает противоположный склон долины, оставляя нас в тени. А наверху плывёт бесконечное небо, только в правом верхнем углу окна его пересекает три полоски проводов. Я отрицаю тебя, Йотенгейм.
Как выглядит следак, уже и позабылось, но Ирина Николаевна приходила, принося добрые вести из дома, сигареты, еду и газеты. В инсинуации Косули она не верила, предполагая что-то свое, но согласилась с моей позицией и приняла ее. Создалась странная, но действующая в мою пользу ситуация, в которой Косуля должен был сохранить лицо перед коллегами и вынуждено отпускал вожжи. Получилась уникальная опосредованная цепь от меня и до тех, кого я, наверно, в глаза не видел. Если бы не реальность казематов, можно было бы назвать происходящее каскадом иллюзий, невероятной причинно-следственной связью. Но она давала результаты, и я настойчиво ожидал движения к лучшему. Идя на очередной вызов к адвокату, я ожидал только положительных вестей, но Ирина Николаевна в кабинете старалась держаться от меня подальше и скоро ушла, сказав, что есть подозрение в том, что умерший в нашей камере был болен менингитом. Ну, был и был, я не придал этому значения, решив, что Ирине Николаевне стало не по себе от запаха тюрьмы, которым пропитаны стены и арестанты. Сознавая это, я и так всегда старался держаться от адвоката подальше: сколько ни мойся бесполезно. Иногда у кого-нибудь объявлялся сухой дезодорант (тоже запретный в тюрьме), и это был праздник обоняния, временная, но большая радость, несмотря на то, что арестант и в этом смысле как собака, то есть к запахам привычен. Вернувшись в камеру, я заметил изменения: прогулки не было, баланду подали в кормушку чуть ли не лопатой, как диким зверям, на проверку тормоза не открыли, вместо этого через кормушку бросили пакет хлорамина, тут же окошко захлопнулось, а голос с продола велел развести порошок в воде и протереть раствором все, что можно. Отписав соседям, мы узнали, что на нашей двери приклеена бумага: строгий карантин, менингит. Что это такое, никто особенно не знал, а когда узнали, вздрогнули от ужаса: вирус распространяется не только через предметы, но и по воздуху, а наиболее вероятный исход болезни смерть, в чем, собственно, мы имели возможность убедиться. Через несколько дней нас по одному вызвали в процедурный кабинет, где врачи, запакованные в резину, в масках и очках, велев не переступать порога, на вытянутой руке брали у нас пробы из полости рта. Еще через несколько дней карантин отменили, но прогулок не было, и обращались с нами по-прежнему как с чумными. Новый Год на больничке был почти гарантирован. Менингитом больше никто не заболел, а в маленькой камере на восемь двухъярусных коек оставалось лишь четверо. Наконец разрешили прогулки. Одурев от зеленых стен, пошел и я, дав себе обещание отныне свежим воздухом не пренебрегать. За час, отпущенный тебе, удается надышаться так, что все становится на свои места, после чего заходишь в вонючую хату с неизбывным удивлением перед превратностями судьбы. Заехал паровоз новеньких, вызывая привычное раздражение, которое арестант должен уметь подавлять в себе на корню. Андрюха Коцаный с общака Матроски зашел хозяином, учинил допрос каждому и прицепился ко мне. Успев отвыкнуть от неуважительного отношения сокамерников, я держал дистанцию, а Коцаный (наверно, потому, что был весь в шрамах) лез на рожон. Возникла взаимная неприязнь, а в замкнутом пространстве куда ее девать. И тогда я его проклял, пожелав ему смерти, отчего стало гораздо легче. А Коцаного вдруг как подменили. Наглость с него ветром сдуло, и время он стал проводить в основном мечтая вслух о том, как уедет с женой в свой дом на озеро Балатон, как снова обует какого-нибудь толстосума, а 7-8 месяцев тюрьмы это ерунда, больше же он никогда не сидит. Его лидерство в хате никто не оспаривал, не обращая внимания, как на того неуловимого Джо, который потому неуловим, что никому не нужен. На вопрос, чем болеет, Андрюха беспечно ответил, что у него рак крови, но это ерунда, с этим живут. Лекарств он не получал, но с общего корпуса пришла малява, в которой сокамерники желали ему здоровья и сообщали, что достали с воли нужное лекарство. Коцаный просветлел от удовольствия; было видно, что тюрьма его не тяготит, покуда он в авторитете. Дебиловатый Дима, едва ворочавший языком (ему никак не могли откачать воду из легких), обращаясь к Коцаному, повествовал:
Прикинь… у нас звено было… я из Перовской бригады… Фунтик так бил рукой… что клиента вверх подбрасывало…
Коцаный, как старший товарищ, одобрительно кивал. «А ты, поворачивался он ко мне, ты по воле кем был? Что ты для хаты сделал? Ты к адвокату ходишь занёс бы лавэ, можешь ведь, я же вижу, не хочешь, поди. Так что по воле?»
По воле все хорошо, с трудом справляясь с ненавистью, отвечал я.
Ты вообще с братвой-то знаком? Коммерс?
Кому коммерс, а кому и мерс.
Ты что, на мерсе ездил?
А что лавэ зажимаешь? Так все-таки коммерс?
Источник: www.e-reading.mobi
Пневмония виебу
До морей мы таки добрались. Серега научил, как гаишников избегать. Он как на тебя смотрит, говорит — ты в носу ковыряйся – ему противно станет, он не остановит. Ну я то парень креативный ниибацца, начал импровизировать – к посту подъезжаем, я козюлю достаю и в рот. Один так сцука блеванул даже. Доехали кароче, без страховки, без техосмотра, с тонировкой в ноль, но доехали.
Ну зачем ездят в Лазаревку вы знаете. Уж точно не за морем. Какое там нахуй море? В Лазаревку ездят за блядями. За бюджетными отечественными блядями в ассортименте. А что еще нужно простому пацану на курортах черноморского побережья? Можно конечно поехать и в Сочи, но там дороже, и ехать дальше по серпантину. А у меня девятка сука глохнуть начинает, как нагреется.
Термостат говорят не открывается. И ручник у меня не держит. И еще сцепление по дороге мы с Серегой попалили. Ну точнее он попалил — я то всегда с проворотом и свистом трогаю, поэтому и колеса передние лысые.
Накручиваю движок тыщ до 4-х, потом педальку бросаю — и хуяк — всех на светофоре сделал. А Серега — тот плавненько отпускает, и ваще ногу со сцепления не убирает. Ну да хуй. Приеду — продам, возьму в кредит Калину! Там даже кондер есть. А что еще надо?Правда мы с Серегой тоже не одним хуем деланные — мы окна то в машине пооткрывали, в мокрые полотеца завернулись — полный , суко, климат — контроль. Кароче, заибись все .
У нас в Миллерово бабы конечно на меня клюют — а хуле, у меня и диски, и тонировка, и аэрография на левом крыле — Серега баллончиком рисовал, и четыре противотуманки на бампере, и саб конечно — из ДСП сам сделал! Дивиди бля поставил перед поездкой — у торчков за две штуки взял. Неонки при
Трактористка и певец
Лидия Кривошип любила ощущать дрожь трактора под собой. Он рычит, тарахтит, иногда ревёт, а она, Лида, правит. Она знает, как усмирить его рёв и куда направить: поле пахать или яму рыть. Он, падла, всё может. Её МТЗ-80, пускай бэушный, пускай восстановленный, но солярку жрёт и рогом упирается.
Сколько себя помнит Лида, столько и имела к технике устойчивый интерес, особенно к железной. Всякие там провода, лампочки и прочее электричество – не по ней. А вот железо: полуоси, шестерни, коленвалы и ключи гаечные – это её. И чем больше, тем лучше. Какой-нибудь сексолог такое пристрастие определил бы, как не вполне естественное удовлетворение либидо, путём замещения субъекта объектом. И, возможно, был бы прав, но Лидии до этого объяснения не было решительно никакого дела. Ей это было допизды. Кстати, о ней.
В колхозе «Память Ильича», где Лидия Кривошип трудилась трактористкой до пота на лице и на других частях своего сильного тела, мужчин было, конечно же, меньше, чем женщин. И все эти мужики были бэушные, восстановленные в той или иной степени, то есть недолеченные. А кто будет лечить? Кому оно надо? Районной поликлинике? Так до неё, как до смерти… Не охота, короче.
И ещё Ильич, чью память олисест…олицест…олицетворяет собой вышеупомянутый колхоз, не был доподлинно известен трактористке Лиде конкретно, как и многим другим. Без надобности им было его знать. Кто он, что он, какой фамилии, какого звания? Наплевать и растереть. Ну, неинтересно. Называется и называется – похуй.
Главное, что девка Лида – при пизде. И не просто при пизде, а при пиздище, как выхлопная трубища у её тракторища. Об этой её особенности ниже будет сказано, а сначала опишем Лидию во всей св
А кому палочек, ароматических?
Так вот как это называется теперь! Так что если вас менты приняли где-то в парке, толпой, с битами такими ароматичскими — так и говорите : «Иду ароматизировать население»

Даешь трезвость изготовителям игрушек!
Вот, а ребенок будет голову ломать, как собрать этого шестиногого слоника!

Красота по-американски
Dodge Challenger ’70. Владелец — 38летний финский менеджер крупной компании, мечтавший о таком авто с 10тилетнего возраста. Теперь ездит по выставкам и собирает призы (говорит, что без кубка ни с одного слёта пока не уезжал). Под капотом — V8 в 7.2 литра и 500 лошадей.

Дед Мороз (с) Мама Стифлера
А у меня дома живёт Дед Мороз…
Он живёт на телевизоре, и ему там нравится.
Он умеет играть на гитаре, петь, и топать ножкой…
Иногда у него садятся батарейки, и он молчит.
А я вставляю новые…
И Дед Мороз снова поёт, притоптывая в такт ватным валенком…
* * *
— Алло, привет! Ты чё такая гундосая?
— Привет. Болею я. Чего хотел?
— Дай посмотреть чё-нить стрёмное, а? Какую-нибудь кровавую резню бензопилой, чтоб кишки во все стороны, и мёртвые ниггеры повсюду.
— Заходи. Щас рожу мою увидишь – у тебя на раз отшибёт всё желание стрёмные фильмы смотреть.
— Всё так сугубо?
— Нет. Всё ещё хуже. Пойдёшь ко мне – захвати священника. Я перед смертью исповедоваться хочу.
— Мне исповедуешься. Всё, иду уже.
— Э… Захвати мне по дороге сока яблочного, и яду крысиного. И того, и другого – по литру.
— По три. Для верности. Всё, отбой.
Я болею раз в год. Точно под Новый Год. Всё начинается с бронхита, который переходит в пневмонию, и я лежу две недели овощем, и мечтаю умереть.
Я лежу, и представляю, как я умру…
Вот, я лежу в кровати, уже неделю… Моя кожа на лице стала прозрачной, глаза такие голубые-голубые вдруг… Волосы такие длинные, на полу волнами лежат… Вокруг меня собралась куча родственников и всяких приживалок, и все шепчутся: «Ой, бедненькая… Такая молоденькая ещё.. Такая красивая… И умирает… А помочь мы ничем не можем…»
А у изголовья моего склонился седовласый доктор Борменталь. Он тремя пальцами держит моё хрупкое запястье, считает мой пульс, и тревожно хмурит седые брови. А я так тихо ему шепчу: «Идите домой, доктор… Я знаю, я скоро умру… Идите, отдохните. Вы сделали всё, что могли…» — и благодарно прикрываю веки.
2:51
Деццкае порно
Я лежал на спине и сматрел на аблака. Я думал, что будь у аблаков пизды, мне б захателось стать птицай и ебать их. Да, такая хуета приходит мне в голаву. Просто я ищо маленький шопесдец. Мне шесть месяцеф, у миня бальшая галава и слабое тело. Зато стоит хуй. Ищо я хаваю из сиськи малако, сру в пеленки и ссу тудаже. Хуле блядь. Маи радители падонки епт, ну и я тож.
Седни мать напаила миня малаком с прифкусом певаса. Это заебись. С вадяры я чета блюю ваще. Патом они с батей сели на матацыкал и мы паехали на прероду. Там было ещо дахуя бухих падонкав барадатых и жирных телак с сиськаме ещо больши чем у маей мамачки. Вот бы папробывать их. Но спрасить я пастиснялсо и просто насрал. Меня памыли в реке и отпистили пагулять на травку. Я начал па ней ползать и у миня впервыйе встал суко. Так я начол задумывацо о йебле. Я решил дождацо пока Бальшие Бляди нажрутца и уснут, а я падпалзу и выебу их. Я прилег на спину и стал ждать. Потом я заебалсо ждать. Ещо йобанные мухи кусали миня. Хули, перевернулса на живот и тут увидел Ейо. Ахуительную телачку. У ней были бальшие галубые глаза и лысая, как и у меня башка. Ана была адета стильно шопесдец, майка в палосачку и памперс, сразу видна — бредки при бабосе. Не то што я, босяк галажопый. Я понял что хачу ие и начол к ней палзсти.
— Гу! — скозал йа, патрогаф ие за ухо.
— Ууу! Ыээ! — атвечайет.
— Ля ыы? — утачняйу на всякий случей.
— Ыыы! Ыыы! Ы! — заулыбалсь чиртофка.
Тагда я паказал ей свой хуй. Он стаял.
— Гугу! гу! — она с бальшим удивленьем зазырела маю пепиську.
— Га! — сказал я, ложась на спину, и закрыл глоза.
Ана пасасала у меня и пализала яичке. Потом мы
Один день из жизни Степана Михалыча
Утро у Степана началось хуже не бывает. Сперва запикало радио и после гимна ебучий голос произнес: «…доброе утро, товарищи. Сегодня пятница, 23 августа». Потом забарабанил будильнек. По-обыкновению своему Степа тут же выключил его нахуй, пачесал свои коки, патрогал эрергированый хуй и решил еще немного панежицца в пастеле. Его тело вмиг вырубилось по-новой, а рука так и осталась на хую. Дремал он еще минут десять, но их хватило чтоб увидеть жуткий сон. Будто он не фрезеровщик с завода «…», а электрик в женском монастыре. И вот его вызывает к себе главная игуменья и благословляет на замену лампочки у себя в келье. Но вместо креста приказывает пацылавать сваю заросшую пезду. Наш Степа припал было под подол, но там вместо старой пелотки он обнаружил пять, по колено висящих, хуев. Манашка ехидно улыбалась сваим беззубым ртом, а Степан взял эти все хуи в руку и тут же почувствовал как на его ебальник вылилась жидкость…
— Вставай хуйплет, на работу проспишь! – это уже со стаканом воды будила его жена, — Ты чо за хуй держишся как за ручку от лопаты? Незабуть, имбецил, что седня у тя зарплата и куда после работы тебе надо поехать.
Тупо переберая в голове последний сон наш фрезеровщик поднялся с постели и отправился в сортир по дороге вспоминая куда он должен поехать после работы.
Те, кто постарше помнят, что в 80-е года прошлого века в провинциальных магазах кроме кильки в томате нихуя не было и простой обыватель всячески изощрялся штоб какнить прокормицца. Те, кто жил поближе к Маскве тому было прощще. Сел на электричку или автобус, скупился в родной столице и заебись. А наш герой жил до нее далеко, но ему тоже хотелось деликатеса под названием КАЛБАСА.
Источник: www.yaplakal.com
 NEOSENSYS.COM Симптомы, диагностика и методы лечения заболеваний.
NEOSENSYS.COM Симптомы, диагностика и методы лечения заболеваний.